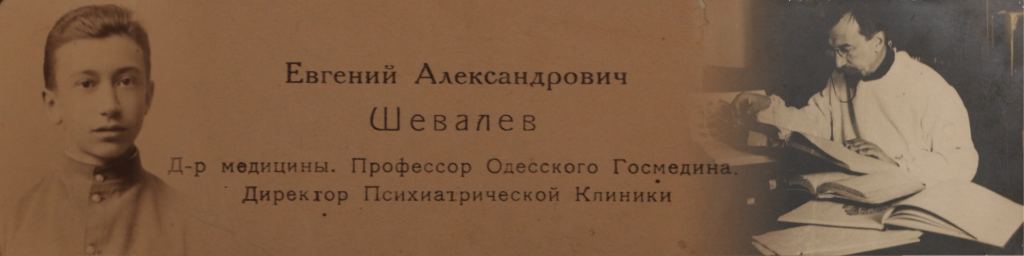Перший і найбільший розділ циклу «Мимолетные мысли». Складається з 65 тематичних фрагментів різної тематики. Хоча машинопис містить багато вклейок та дописів від руки, все ж Євген Шевальов не намагався надати йому чіткої структури – навіть не ставив такої задачі.
Тому «Психологические и философские заметки» можна порівняти із салатом, де намішані роздуми про життя, людей, соціальний устрій, мистецтво, психіатрію. Одні теми розкриваються послідовно, інші – хаотично, із довільним розташуванням відповідних частин.
Деякі фрагменти, ймовірно, перегукуються із науковими статтями Євгена Шевальова:
XXVI – з неопублікованою роботою «Об особенностях психо-нервной деятельности в вечернее и ночное время» (1940-і роки); XXXVIII – «О психическом примитивизме» (1934 рік), LV – «О психологии и патопсихологии брани» (1940-і роки).
Робота містить 104 посилання на твори 52 письменників, філософів та художників, більшою мірою російських (Толстой, Чехов, Пушкін, з художників – Федотов, Вересаєв, Левітан). В європейських літературах Шевальов найбільше надихається Гете, Шекспіром, Роденбахом та Уайльдом, у мистецтві – Рембрандтом та Роденом.
Для зручності орієнтування ми пронумерували тематичні блоки «Заметок» і дали їм назви відповідно до тематики кожного:
I – Втілення думок у словах; ІІ – Логіка і насильство над реальністю; ІІІ – Два типи співчуття; IV – Типи взаємодії з реальністю; V – Про еволюцію сприйняття.
VI – Полярні типи проживання життя; VII – Про чесність та лукавість психіки; VIII – Про вершину долі; IX – Про відношення до романтичного; X – Про первинне переживання.
XI – Зв’язки між думкою та словом; XII – Різні форми оптимізму; XIII – Принциповість; XІV – Життя і смерть думок; XV – Про серйозність гумору.
XVI – Два типи серйозності; XVII – Значення гумору; XVIII – Серйозність і печаль; XІX – Про психізм речей; XX – Про відчудження від минулого.
XXI – Про психічну динаміку; XXIІ – Види чутливості; XXІІІ – Маячіння як імітація принциповості; XXІV – Про сприйняття творців і їх творчості; XXV – Два види інтелектуальної діяльності.
XXVI – Про вплив дня і ночі на психіку; XXVII – Про гнітючу повторюваність в людській психіці; XXVIIІ – Нахабство від сором’язливості; XXІX – Сором’язливість перед світом; XXX – Про надлишок спрямованості.
XXXI – Про переваги дитячого мислення; XXXIІ – Життя і професія несумісні; XXXІІІ – Амбівалентність багатьох професій; XXXІV – Професії та світогляд; ХХХV – Романтизм віддаленості.
XXXVI – Про минуле і майбутнє у людській психіці; XXXVII – Про ідеалізацію віддалених подій; XXXVIII – Простота і примітивізм; XXXIX – Про серединність життя; XL. Біологічна, психічна, соціальна неповноцінність людини.
XLI – Про вияви серцевини особистості; XLII – Переживання та використання слів і понять; XLIII – Уважність до іншого; XLIV – Про філософію Толстого.
XLV – Про беспредметний біль душі; XLVI – Реальність, мрія і соціальний устрій; XLVII – Психіатрія – це скарбничка Пандори; XLVIII – Роль пауз у мистецтві; XLIX – Про ефекти темноти та тиші; L – Звучання тиші;
LI – Гнітючий вплив тиші; LII – Влада тиші; LIII – Психологічне значення просторової далечини; LIV – Просторовість та уявлення про добро і зло; LV – Про релігійність та лайку.
LVI – Про повторюваність та психологізм; LVII – Про значення вирішальних моментів життя; LVIII – Відношення між філософським та афілософським; LIX – Про цінність світогляду; LX – У Всесвіті так мало нового.
LXI, LXII – Про переконливість заперечень; LXIII – Містицизм і цинізм; LXIV – Еволюція ідей як перерозподіл акцентів; LXV – Єдність протилежностей – тільки це і є реальним.
Текст відтворено у відповідності з авторською лексикою та орфографією. Неідентифіковані або втрачені фрагменти позначені трикрапкою, реконструйовані – виділені квадратними дужками. Авторські виділення та посилання збережені. Більше про технічні та стилістичні особливості читайте у передмові до філософських статей Євгена Шевальова.
Мысль, воплощаясь в слове и таким образом принимая стойкий характер, тем самым начинает период своего затухания. Всякая мысль до известной степени [мумифицируется] в слове. Слово – с одной стороны, нередко конечное достижение, кульминационный пункт расцвета мысли, ее предельной ясности и четкости образа, а с другой стороны – начало умирания мысли, ее обездвиживание и отсюда обесцвечивание.
В общей динамике жизненных процессов слово, как окаменелость, быстро теряет свое первоначальное значение, если только оно не обрастает новым окружением, новым словосочетанием, что создает ему новое понимание. Оживающие старые слова и, стало быть, старые мысли, – это всегда мысли и слова, хоть немного, а все же понимаемые по-новому.
Полного соответствия первоначальному смыслу нет, есть лишь приближение к нему, и не потому только, что ничто в жизни не повторяется, а потому, что зажигает и стимулирует слово только в новом приложении к жизни, в новом его понимании.
Вот почему чем старее собственные записки и дневники, тем менее яркими и оригинальными (более для нас чуждыми) кажутся нам высказанные в них мысли, сегодняшнее «я» за них уже перешагнуло. И наоборот, чем они ближе по времени к настоящей минуте, тем кажутся нам свежее, интереснее и оригинальнее.
Логика – это те объятья, которые мы простираем миру, стремясь охватить в одно целое все иррациональное в жизни, и вместе с тем укротить его, сделать ручным, втиснув в русло стройной умозрительной структуры.
Однако бедные человеческие руки слабы и лишь путем насилия над реальностью, путем крайних форм упрощения, схематизация ее, этот безмерно одомашненный… хаос, может сполна быть заключен в пределах размаха наших объятий, нашего конечного «отсюда и досюда» ratio.
В моральных чувствах (сострадании, сопереживаниях) есть, как и в области зрения, своя близорукость и своя дальнозоркость.
Есть люди, которые могут сочувствовать и сопереживать (сострадать) только тому, что находятся непосредственно перед ними. Это, по преймуществу, женский тип любви-жалости, бывает нередко связан с значительно выраженной невосприимчивостью к такого же рода раздражениям, но лишь отдаленного, невидимого сейчас, следовательно, ненаглядного порядка (к более или менее отвлеченным формам сострадания).
Мужской тип характеризуется большей абстрактностью – любовью к дальнему (к человеку вообще) или даже, как крайняя форма этой моральной дальнозоркости – любовью к «вещам и призракам» (Die Liebe zu Sachen und Gespenster – Ницше).
Хорошо развитая «моральная дальнозоркость» делает таких людей нередко малочувствительными к гримасам сегодняшнего дня, нарабатывая у них иные формы устремленности, как-бы сверхисторические вчувствования и сопереживания.
Иная разновидность сострадания – уже не в плоскости близорукости или дальнозоркости, а в плане нечувствительности (или малой чувствительности) к реальному наряду с обострением чувствительности к фантастическому, вымышленному, характерна для шизотимической формы сопереживания.
В ней сказывается как бы недоразвитие восприимчивой части в процессе сопереживаний при сохранности [ответной], приводимой в действие центральными раздражителями.
Такого рода лица, холодные и безучастные к окружающему, легко эмоционально заражаются при чтении трогательных книг, при виде театрального зрелища и прочего в том же роде.
Есть люди, которые не подходят вплотную к окружающей реальности и не окунаются в нее с головой целиком без остатка, а лишь в большей или меньшей степени на протяжении всей своей жизни касаются ее. Эта своеобразная категория людей, живущих как бы по касательной, по отношению к окружающей реальности, лишь задеваемые ею. Для них самое главное и основное в жизни лежит за пределами реальности – в мире мечты.
Отсюда (а иногда и независимо от этого, в силу просто характерологических особенностей личности), создается у некоторых лиц относительно слабая увязка с жизненными благами, отсутствие искания их, а там более жадного их хватания, недостаточно четкая и стойкая целенаправленность всего поведения, жизнь «пока», как-будто впереди предстоит еще одна, несколько жизней.
Все эти полу-реалисты, четверть-реалисты, одну сотую реалисты – словом, все эти лица разной степени и разной градации реалистичности составляют, как показывает наблюдение, весьма большой процент среди окружающих нас людей, значительно больший, нежели это кажется с первого взгляда.
Но есть еще и другая категория людей, которых тоже жизнь задевает по касательной, однако уже в совершенно ином плане.
Это все люди, проходящие свой жизненный путь без каких-либо сдвигов, надбавок к тому, что было раньше, не задеваемых жизнью, у которых совершенно отсутствует жизненный опыт как форма духовного роста, развития и расширения понимания.
Здесь нет накопления с годами жизненной мудрости и поэтому к ним может быть применено безнадежно пессимистическое изречение, гласящее, что история учит тому, что ничему не учит.
Это все безнадежно замкнутые в себя, в свой изначально и навсегда сложившийся футляр люди.
Люди как-то мало останавливают внимания на самой эволюции понимания – в литературе, в философии, науке, в религии.
Одни и те же строго стабилизированные объекты – книги, картины и прочее, иногда коренным образом меняют на протяжении времени свое содержание в зависимости от изменения понимания их.
О Шекспире, Рембрандте, о Толстом, Ницше будут еще бесконечно много писать книг и трактатов и в них, в этих авторах, будет открываться нечто совершенно новое, что нам сейчас даже не приходит в голову.
В жизни никакая стабилизация не устраняет динамики.
πάντα ρει* касается не только текучего, меняющегося, но и неподвижного гранита, раз вылитых форм, раз навсегда напечатанных букв.
Особенно поучительна в этом отношении эволюция в понимании Евангелия, Библии. Какое только содержание не вносилось в эти исторические памятники, какие только формы поведения – поступки, действия – не оправдывались с точки зрения рекомендуемых ими норм!
Отсюда следует, что и относительно хорошо усвоенного нельзя, в сущности, сказать: я это знаю.
Я знаю, пожалуй, одну из бесчисленных возможных установок на данный объект – и только!
Поэтому по существу нет, не существует неразрешимых проблем (например, проблемы жизни, смерти и прочего).
Вернее, если они и неразрешимы до конца без остатка (а какие, собственно говоря, проблемы разрешимы до конца, без остатка?), то нет пределов для их понимания, нового подхода к ним и нового толкования.
• πάντα ρει – «Усе плине» – вираз давньогрецького філософа Геракліта.
Есть люди, которые насыщены по горло своей жизнью, вмещаются в нее целиком, без остатка, будучи приложены к ней, как «ключ к замку».
Такого рода людям часто бывает свойственна своего рода «обтекаемая» форма мировоззрения, подобная обтекаемым формам легковых автомашин, где все так складно прилажено, пригнано, доведено до предела в смысле устранения сопротивления окружающей среды, где нет острых углов, а имеются одни лишь закругленности и поэтому все приспособлено к тому, чтобы проскальзывать, обходить, не задевать.
Этим людям никогда даже не придет в голову мысль (или, что еще хуже – желание), – выйти за пределы своей жизни, выпрыгнуть из нее куда-то.
Как будто данность это то, с чем не только надо мириться (что уже предполагает предварительную ссору), но и просто то, чем человек удовлетворяется сразу, без остатка, «отсюда и досюда», как будто ничто и в мыслях не может быть выходящим за пределы этого выдаваемого жизнью пайка.
С другой стороны, есть люди во всем и везде непрерывно чувствующие, что они живут неполной, ненасыщенной жизнью и поэтому с усилием, даже с надрывом проходящие по пути своего реального существования. Это большей частью люди с какой-то изюминкой запредельности – не те, конечно, des aquilibres, которых просто не хватает для заполнения обычного сосуда жизни и они поэтому в бессилии в той или иной нелепой форме, переплескиваются через край, обнаруживая этим свою несостоятельность, – а те, для которых нет увязки между формой и содержанием и у которых это чрезмерно [разросшееся] и усложнившееся содержание стремится выйти за пределы ограничивающих его матеръяльных рамок. В результате, создается какой-то переплескивающий психизм, представляющий в большинстве случаев на сегодняшний день не излишки, а ненужности (не реализующиеся в полезной деятельности надбавки).
Это часто люди с цепляющимся, задеваемым и задевающих других мировоззрением, проходя мимо которых легко можно зацепиться за тот или иной отдельный принцип, наколоться на ту или иную отдельно выступающую острую иглу.
Весьма многие и даже элементарные восприятия являются не одним лишь отображением окружающей реальности, но представляют уже известную избирательность, а также известную надбавку к этой реальности, то есть элементы реализации желаемого, хотя это обычно и не удается сразу, извне уловить.
Почти в каждом «я вижу», «я слышу» есть уже немножко (чуточку, почти незаметно): «я хочу это видеть», «я хочу это слышать».
Присматриваясь к тому, как ведет себя человеческая психика в обычные и особенно в трагические моменты жизни (в условиях личного или социального трагизма), начинаешь различать размеры ее «объективной честности» и размеры ее вместимости.
Невольно поражаешься, как ограничен диапазон ее эмоциональной выносливости – в меньшей мере выносливости идеологической (ибо сфера понимания значительно шире сферы сочувствия, со-переживаний – я могу значительно больший круг явлений осмыслить, понять, нежели их со-пережить).
Побуждаемая чувством самосохранения, поддерживая все время среднее, в меру оптимистическое состояние эмоциональности, инстинктивно защищаясь всячески, на каждом шагу, от всего того, что превышая норму, могло бы повлечь за собой явления срыва, психическая жизнь лавируя, уклоняясь, временами лукавя перед собой, пробирается через жизненные дебри.
В жизни каждого человека бывает свой fastigium – своя вершина.
Подобно тому, как каждый авиатор имеет свой «потолок», выше которого он уже не может, не в силах подняться…
…не в смысле достижения максимального жизненного благополучия, и не в смысле максимального выявления себя вовне, а в смысле наибольшей душевной зрелости, когда конденсированнее всего собираются как-бы в одну точку все его характерные особенности, вся его личность.
ДО этого периода человек еще не дозрел, ПОСЛЕ этого он уже не нов, не оригинален, уже повторяется, а повторяясь, шлифуется, и, стало быть, хоть чуточку да изменяется, стирается от обтачивания (жизненная шлифовка характера, миросозерцания, даже внешняго облика).
Этот fastigium личности далеко не всегда может быть своевременно в точности уловлен, он чаще всего устанавливается post factum, когда человек уже умер.
Этот fastigium не обязательно должен выражаться в полной законченности, завершенности. Он может выпадать (и часто именно выпадает) на период незавершенности.
«Подобно тому – говорит Ницше, – как не только зрелый возраст, но и юность и детство имеют собственную ценность и совсем не могут быть рассматриваемы только, как переходы и мосты, так и незаконченные мысли имеют свою ценность».
Каждый человек имеет свою гамму романтики – мечтательно-романтических проявлений, – определенный объем своего романтического регистра.
У некоторых лиц этот романтический компонент психики минимален, так как изначально скуден, примитивен и убог, и поэтому совершенно не выявляется вовне, будучи подавлен деловитостью повседневности.
У других он, наоборот, чрезмерно часто и неуместно выпячивается, давая о себе некстати знать по каждому ничтожному поводу в моменты, совершено для этого неподходящие.
У третьих он, будучи очень богат, многообразен, содержателен, тщательно маскируется за внешним фасадом сдержанности, порой даже сухости, или наружной суровости, охраняемый как некое «святая-святых» внутренней жизни для совершенно исключительных, наиболее утонченных жизненных переживаний.
О «первичном переживании» (Гете).
Первичное, «первозданное» переживание (Unterlebnis) характеризуется своим изначальным характером. С ним тесно связано и первичное вопрошание – способность ставить вопросы без всяких предвзятостей, без всякого предварительного знания, ставить их так, «как мать родила».
Первичное переживание нередко осуществляет совершенно новый подход к явлениям. При этом иная мысль оттачивается и заостряется ее необычной, часто парадоксальной формулировкой.
Не «как все» – является главным исходным моментом, определяющим своеобразие такого рода переживания и связанного с ним вопрошания.
Чем больше самостоятельности в мышлении, тем больше в нем [скрываются] эти первичные переживания и первичные вопрошания.
Между мыслью и словом далеко не всегда существуют прямые и непосредственные отношения. Нередко слово не поспевает за мыслью, в других случаях мысль не поспевает за словом.
В первом случае возникает ненахождение слов и тогда создается как-бы особая форма косноязычия, запинки и длительные паузы в речи, использование неподходящих выражений и прочего.
Во втором случае возникают некоторые формы красноречия, нередко льющегося непрерывным потоком, представляющие собой лишь голый вербализм, по существу в значительной степени лишенный содержания в смысле насыщения его определенными мыслями, скрывающий за собой провалы мысли, идеологическое убожество этих пустот.
Иногда слово может принять характер чего-то самодовлеющего, без осознания этого самим субъектом, уже давно утратившим ощущение слова, как самостоятельного фактора, способного само по себе влиять на ход явлений окружающего мира.
Это «заклятие словом» – столь остро ощущаемая первобытным человеком замена подлинного жизненного явления чуждым ему и потому таинственным по своей обособленности словесным символом, нередко убивающим своей окаменелостью само жизненное явление, уже не… ощущается в такой мере современным человеком, привыкшим [спаивать] воедино жизнь (переживание) и слово и поэтому не чувствующим пропасти между ними.
Есть разные формы оптимизма.
Есть оптимизм идеологический, как определенное идеологическое достижение, и есть оптимизм физиологический, который только прикрывается идеологическими аргументами.
Оптимизм углубленный и оптимизм поверхностный, дешевый (врожденная безвопросность, неосознание или недостаточное осознавание проблемы мирового зла и в частности отдельных его проявлений).
Интересным, заслуживающим внимание и убедительным может быть только идеологический оптимизм, тогда как оптимизм физиологический ни для кого, конечно, не убедителен.
Наиболее распространенной формой оптимизма, как бы обязательный для каждого порядочного человека, на подобии «хорошего тона» Германа Гоппе, является та форма штампованного оптимизма, – оптимистической многотиражки, – которая выражается верой в непременный общий прогресс человечества.
(«а все-таки, все-таки впереди огни!»).
Понятие прогресса включает в себя далеко не однородные разделы. В технический прогресс не нужно «верить», – он ясен, четок и самоочевиден. Это не область веры, это область знания и научных гипотез. Вся беда в том, что эта «вера в прогресс» обычно переносится без всяких оговорок и на сферу моральных отношений. Отсюда вера в том, что в будущем войны постепенно сойдут на нет, человечество поймет, наконец, из бессмысленность и по щучьему велению перестанет воевать.
Фактических, реальных доказательств для такой веры не только не имеется, но вся мировая история последняго времени учит как раз обратному.
В этом прекраснодушии совершенно отсутствует понимание психологии среднего человека, того, кто по существу всегда являлся и является фактическим господином истории, вершителем ее судеб. Здесь больше всего сказывается чисто личная потребность в исходе, концовке, в эмоциональном и логическом [насыщении] и в законченности структуры, в построении будущего по типу «как это мне хочется», а не по типу того, как это, к сожалению, случается чаще всего в жизни.
Однако, наряду с такого рода поверхностным оптимизмом, нередко граничащим в крайних формах своего выражения с чисто физиологическим, «утробным» («оптимизмом хорошего пищеварения»), существует, как мы указывали выше, и другой оптимизм – углубленный, просветленный, порождаемый изначальными переформатированными свойствами душевной жизни, ее глубинной сущностью.
В противоположность тому подходу к окружающей реальности, который, подобно Рентгену, пронизывая все и вся, всюду обнажает лишь унылый, однородный, мертвый костяк вещей, их подлинные оголенности, такого рода углубленный оптимизм, не игнорируя этого костяка, не отворачиваясь от него, лишь потому, что он не созвучен его настроенности, целиком его учитывает и особым образом просветляет и преображает.
Это какой-то заброшенный в жизнь осколок запредельности, иногда с внешней стороны сразу даже мало заметный, пронизывающий окружающую реальность, проникающий во все ее закоулки.
Это частица мирового Эроса, преодолевающая реальность и, в конечном итоге, преображающая и просветляющая эту реальность.
Большинство больших альтруистов (лиц со значительно выраженными альтруистическими наклонностями) – это грустно настроенные люди, остро чувствующие человеческое страдание и глубоко его переживающие. Точно так же оптимизм (оптимистическое мировоззрение) не предопределяет непременно жизнерадостность.
Лица, подобные Уоту Уитмену, совмещающие в себе ярко выраженный оптимизм с ярко выраженной жизнерадостностью (солнечные натуры в истинном смысле этого слова), встречаются относительно редко. Говоря так, мы, конечно, имеем в виду лишь философский оптимизм, который нередко, к сожалению, смешивают с оптимизмом витальным, примитивно-сенсорной природы, который всегда имеется на лицо при эуфорической структуре психики.
Так называемая принципиальность – далеко не однородное понятие и поэтому далеко не во всех случаях должна быть рассматриваема как положительное явление.
Многие из так называемых принципиальных людей – это люди, наглухо замурованные в своих миросозерцаниях, куда не доходит ни капли свободного воздуха других аргументов, здоровых раздумий и сомнений, учета по возможности всех конкретных условий, из которых созидается данная ситуация. Положительная форма принципиальности, принципиальной стойкости, характеризуется все же определенной гибкостью, равнением на определенную реальность, без чего она нередко превращается в штамп, окаменелость, больно ущемляющую нормальную динамику жизни.
Мысли, как и живые существа, имеют свой возраст – свое зарождение, расцвет и свое затухание и умирание.
Потухающие мысли – личные и общие – это мысли, сохраняющие еще все свое содержание, но уже утрачивающие свою эмоциональную насыщенность.
Мертвые мысли – это мысли, окончательно потерявшие не только свою эмоциональную насыщенность, но нередко и все свое содержание.
Зарождающиеся мысли – это мысли едва шевелящиеся, ЕЩЕ не получившие словесного или даже понятийного оформления.
В противоположность этому затухающие – это еще слабо шевелящиеся, уже в значительно меньшей мере стимулирующие сознание, нежели они его стимулировали на высоте своего развития.
Каждый отрезок времени для каждого человека определяется своей суммой насыщенных, актуальных мыслей – мыслей, находящихся на высоте своего расцвета, если, конечно, не считать периодов безразличия, апатии, когда вообще исчезает эмоциональная напряженность и все мысли субъекта приобретают равномерно тусклый тон.
Рост мыслей далеко не всегда совпадает с их расцветом.
Иногда на высоте этого расцвета они еще представляются окончательно не доросшими, недоразвившимися до своих конечных логических выводов.
Иногда это окончательное дозревание совпадает с периодом затухания мысли.
Зажигают не только те новые мысли, которые стоят в каком-то отношении к предшествующему содержанию сознания субъекта, на которого они воздействуют, но нередко совершенно новые, неожиданные. Это бывает лишь тогда, когда они эмоционально насыщены у того, кто зажигает других своими мыслями.
Революционность мысли часто определяется не столько ее содержанием, сколько инициальным периодом ее зарождения и развития.
С другой стороны, многие мысли, казалось бы и революционные по содержанию, по существу являются уже затухшими или полузатухшими, затухающими и поэтому больше вербальны, чем актуальны, больше форма выражения, чем форма переживания.
Некоторые мысли, будучи уже совершенно затухшими, мертвыми, продолжают тем не менее оставаться в жизни в своей вербальной форме, в виде своей лишь словесной шелухи, имитирующей какое-то якобы скрытое в них содержание и эмоциональность.
Этими «мыслями трупами» нередко бывает заполнена не только речь, но и сознание многих людей, без того, чтобы сами носители их сознавали, что и они оперируют не живыми объектами, а трупами.
В юморе, беспечности, легкомыслии есть нередко какая-то своя внутренняя серьезность.
Отсюда юмор при серьезном строе души, беспечность и легкомыслие лишь поверхностных слоев психики.
Есть люди, которые, подобно одному из персонажей Чехова «всегда говорят о серьезном, но никогда не серьезно».
Наряду с этим существует несерьезный, пустой юмор, пустая беспечность, пустое легкомыслие.
Примером первой формы может служить юмор большинства мелких рассказов Чехова, примером второй – пустой американский юмор Марка Твена.
В жизни вообще можно в этом отношении нередко отмечать антиномичные структуры психики. Беспечность мыслителя, сосредоточение думающего человека, жизнерадостность страдальца.
Иногда это выражение характерологических свойств личности, формы восприятия ею жизни (избыток душевной бедности), иногда – защита, фасад.
Недаром знатоки театра говорят о том, что в жизни трагики часто народ веселый, тогда как комики нередко люди, склонные к депрессии, ипохондрики.
Известный театральный работник Гордон Крейт говорит, что «надо трагически чувствовать комическое положение».
На изумительных портретах Веласкеса, изображающих придворных шутов, карликов, обязанных смешить двор испанского короля, бросаются в глаза сосредоточенно грустные лица (например, в знаменитом портрете так называемого Хуана Австрийского.
Существует два вида серьезности: внутренняя и внешняя серьезность. Удельный вес этих видов серьезности неодинаков.
Так, внутренняя серьезность в жизни нередко сочетается с внешней. Однако, во многих случаях она не оказывается непосредственно во вне, особенно у людей жизнерадостных, с виду как будто бы лишенных глубоких переживаний.
С другой стороны, внешняя серьезность далеко не всегда увязана с серьезностью внутренной. Она нередко является лишь фасадом, внешней формой поведения, характеризующей чаще всего паталогические состояния личности – ее конституциональную угрюмость, слабо развитую способность улыбаться, невосприимчивость к смешному веселому, при одновременном отсутствии адекватных по своей углубленности внутренних переживаний, что особенно свойственно лицам шизоидного круга.
Внутренняя серьезность является либо врожденной, как проявление особой структуры личности, рано обнаружившей углубленный подход к жизненным явлениям, либо нажитой, создающейся в результате жизненного опыта или в результате возрастных изменений личности.
В общежитии принято отсутствие жизнерадостности и слабую восприимчивость к смешному называть серьезностью.
Безулыбчивость еще не есть серьезность, вернее, как раз обратно – истинная серьезность часто связана бывает с улыбчивым восприятием мира.
Сухое, нередко сосредоточенно-угрюмое отношение к живой жизни и отдельным ее проблемам, что может осуществляться как на фоне спокойно-сдержанного, так и на фоне жизнерадостного восприятия ее.
Как мало в жизни смешного – не грубо-утробного, заражающего по преимуществу примитивизма, а простого, ясного или утонченного! Как нужно им дорожить!
С годами диапазон смешного суживается.
Есть люди невосприимчивые к смешному – непонимающие острот, шуток, каламбуров, не воспринимающие каррикатур, или воспринимающие все смешное в очень узких пределах. И эта особенность нередко является чрезвычайно характерной чертой данной личности.
Есть, наоборот, люди очень чуткие к смешному, особенно в этом смысле сенситивные, смешливые, и это часто совершенно не зависит от основных ведущих форм их настроения: мы не имеем в виду лиц, эуфорически настроенных или, наоборот, депрессивных. Отношение к смешному в значительной степени определяет человека.
Форма смеха – внешнее выражение эмоционального состояния, связанного с переживанием смешного – в значительно большей мере определяется психическим складом субъекта, грубостью или утонченностью его переживаний, а также его культурным уровнем, нежели форма выражения горя. Последняя представляется более универсальной, в известном смысле даже сверхиндивидуальной, тогда как смех имеет целый ряд градаций, начиная, с одной стороны, с наивного смеха, смеха, как выражения жизнерадостности, а с другой – с грубо утробного смеха или с форм, связанных с жестокостью (издевательский, презрительно-садистический смех Мефистофеля) и целого ряда других многообразных проявлений.
Реакция смеха тесно связана с проблемой смешного, которая включает в себя как общечеловеческое, вневременное, так и узко частное, ситуационное, обусловленное.
Все серьезное близко к печальному.
Серьезная веселость и серьезная радость – понятия почти несовместимые или, во всяком случае, значительно реже встречающиеся, чем серьезная печаль (чаще – печальная серьезность, при которой ведущей является серьезность, а печаль порождается серьезным отношением к жизни).
Даже у многих животных выражение серьезности имеет смутный оттенок печали.
Жизнь, в конечном итоге, больше загрунтована на темном колорите, или во всяком случае сером, то есть эмоционально безразличном, нежели ярком, радостном.
О психизме вещей.
Об этом как-то не говорят, а между тем каждая, как одушевленная, так и неодушевленная вещь включает в себя определенную, связанную с ней сумму психического содержания, прямого или символического, имеет определенную психологическую насыщенность, иная большую, иная меньшую.
Все это какие-то невидимые и неосязаемые флюиды, оставленные нами – разными людьми по-разному – на вещах.
От этого наслаивающегося психизма вещи как-бы загораются, четче формируются и отепляются, выходя из сферы окружающего всех нас космического холода.
Все окружающие нас предметы не индифферентны, не пассивны, как на первых порах может показаться, а всегда наталкивают нас на определенные мысли, поступки, действия.
Словно следы, отпечатки воспоминаний… откладываются не только в мозговых клетках, но и проэцируются нами вовне, откладываются на внешних предметах, с которыми мы имеем дело в повседневной жизни.
Отсюда можно было бы распределить все предметы окружающего мира в известной последовательности по степени их близости нам и в зависимости от их большей или меньшей одухотворенности.
В этом смысле иной неодушевленный предмет может быть для нас подчас субъективно одухотвореннее иного живого существа.
Иная вещь, даже часть ее (черепок, осколок, клочок недописанной бумаги) бывает иногда так психологически насыщен, что почти кричит о себе, конечно, лишь для избранных, для имеющих уши, чтобы слышать.
Роденбах, описывая впечатление, получающееся иногда при определенной обстановке от медленно капающих капель, говорит о «невидимых слезах предметов, в которых слышится почти человеческая грусть».
Смысл вещей в их одухотворенности.
И чем более углубленна, многогранна эта одухотворенность, тем значительнее вещь, тем значительнее явление.
На каждую вещь – выражаясь языком Розанова, – люди в большей или меньшей мере «надышали тепла». Это «надышанное тепло» создает совершенно особую сферу – особую, неизвестную физике, энергию, растворенную в окружающем мире.
И если можно говорить, что все духовное мартерьяльно, то с не меньшим правом можно говорить и о том, что все матерьяльное духовно, то есть имеет в себе невидимую и неосязяемую надбавку в форме того психического содержания, – идеологического, эмоционального, – которое мы ему придаем.
Как быстро отчуждается прошлое!
Статуи и картины музеев, наши собственные старые фотографии.
В конечном итоге, собственно говоря, прошлого нет и мы всегда по-настоящему живем лишь сегодняшним днем.
Художник (Рембрандт, Рафаэль) не то видел, что я вижу, глядя на его картины, философ (Платон, Кант) не то думал, что я думаю, читая его произведения.
Выражаясь языком психологов, их «аперцептивная масса» была совершенно иная.
Странно себе представить: ночью или в дни, когда нет посетителей, в наших музеях молча стоят статуи, висят картины, смотрят со стен портреты – осколки другого, уже умершего мира, одинокие, сполна совершенно не раскрытые, не понимаемые современниками, а в дни, когда бывают посетители, по ним равнодушно скользят взоры большинства преходящих (рассеянной толпы), или сосредоточенно устремлено на них внимание отдельных лиц, видящих в этих статуях, картинах главным образом свое, новое, в большей или меньшей мере чуждое вложенному в них первоначальному психизму.
Один только раз прозвучал миру образ Венеры Милосской, смысл философии Платона так, как он представлялся самому художнику или как его мыслил себе сам философ, более всего понятные для современников на протяжении определенного отрезка времени и затем уже все последующие поколения, окруженные другими предметами, другими мыслями, с другим историческим опытом, видели в этих произведениях иное, в значительной мере свое, чуждое тому, что хотели первоначально выразить творцы этих произведений.
В некоторые исторические периоды наблюдается как-бы максимальное прибавление к уже пережитому, в другие – максимальное удаление от него, расхождение с ним и поэтому полное его понимание.
Но и в случаях приближения нельзя обманывать себя и думать о полноте понимания и сопереживаний – дело идет лишь о некоторых элементах созвучания при расхождении во всем остальном. И не только потому, что полной повторяемости вообще не существует, но и потому, что в новых условиях сам человек с начала до конца уже новый.
Оценивая разные стороны в структуре человеческой психики, принято придавать совершенно различное значение динамике в большом – в основных установках личности – и динамике в малом: в мелочах ее повседневного поведения.
В то время как вязкость, застреваемость, фиксированность, стереотипия в повседневном поведении справедливо оцениваются как отрицательные психические проявления, а живость, подвижность, впечатлительность, находчивость, как положительные, динамика в основных установках психической жизни имеет как раз обратное значение: здесь наиболее ценными представляются явления относительного адинамизма – стойкость, твердость, постоянство убеждений, чувств и переживаний, верность, преданность… в то время как эмоциональная и интеллектуальная лабильность рассматриваются как патология основных установок личности.
Таким образом, все формы поведения человека, его внешние реакции, по мере восхождения к корню личности, теряют в своем динамизме.
Конус, как-бы упирающийся своим острием в личность и широко расходящийся у основания, по мере удаления от ее ядра.
Отсюда такие явления, как, с одной стороны, принципиальная гибкость, с другой – принципиальная колкость.
Постоянство в переменном – вот то, что, казалось бы, должно было определять динамическую структуру человеческой психики.
Однако, как в этом постоянном, так и в этом переменном, есть своя относительность – свое относительное постоянство и своя относительная изменчивость.
В конечном итоге, каждая сфера психической жизни определяется своим особым ритмом – частотой, амплитудой и пределами ритмических колебаний. В психическом мире, как и в мире физическом, πάντα ρει непрерывно, на каждом шагу соревнуется с началом неподвижности, косности, постоянства, создавая ряд типичных для каждого раздела психической жизни динамических вариантов.
Есть различные виды чуткости.
Чуткость к чужому страданию, горю, к особенно уязвимым болезненным переживаниям другого человека, к его полноценности, слабости, к его непониманию, недомыслию и прочему.
Чуткость к любви, симпатии, чуткость к неудовольствию, неприязни.
Чуткость к грубости, вульгарности, неестественности, лживости, ходульности и целый ряд других.
Среди всех видов чуткости есть один особый вид ее.
Это чуткость к пошлости.
Такого рода чуткостью отличался в высшей мере Чехов. Чуткость к пошлости характеризует наиболее утонченную интеллигентность человека.
Бред душевно-больных – это иммитация убежденности, принципиальности, свойственной психически здоровому человеку, каррикатура на них.
Человек не стойкий, в жизни совершенно беспринципный, становится принципиальным, стойким в психозе, нередко даже преобразуясь в безкорыстного борца за идею, отображая в себе те качества, которые сами по себе, отдельно взятые, считаются социально положительными, характеризуя собой идейную выдержанность.
Самые верные, стойкие, беззаветно преданные одной какой-либо идее люди – пусть идее нелепой, вздорной, от этого существо дела не меняется – это душевно-больные.
Таким образом, психические проявления при душевных заболеваниях представляют собой не только негатив, манию по отношению к проявлениям человека нормального, но нередко и выявление его лучших качеств, только с иным содержанием, чаще всего малоценным, иногда бессмысленным, нелепым.
Идейная стойкость и настойчивость иного параноидного больного представляется завидным преймуществом для психологии здоровых людей, для многих общественных, научных и литературных деятелей…
Если бы мы непосредственно увидали бы в жизни всех тех великих людей – писателей, художников, философов, ученых, великих моралистов, перед которыми мы преклоняемся и творчество которых высоко чтим, узнали бы их путем встреч в повседневном быту, мы, наверное, ко многим отнеслись бы недоброжелательно, увидали бы темные пятна, а отсюда перенесли бы хоть частично свое недоброжелательство и на их творчество.
Такова уже психология людей – расстояние, особенно во времени, когда уже к сказанному и сделанному ни йоты не может быть прибавлено, лучший хранитель последующей идеализации прошлого.
Все «человеческое, слишком человеческое» отпадает, остается одно только общее.
А может быть, это общее и в самом деле наиболее важное, стержневое? Быть может, мелочи жизни если не совсем бесценны, то малоценны, а какие-то пронизывающие всю жизнь нити, подпольно пробивающиеся ключи составляют нечто самое существенное в человеке, его стержневое начало?
Ведь говорим же мы об узости, мелочности суждений, когда в оценке личности сосредотачиваем свое внимание на этих малозначительных подробностях. Так ли это?
Необходимо признать, что мелочи не менее, если не более ценны для личности, только беда в том, что улавливать и ценить их мы не умеем, так как не умеем находить основное и значительное в этих мелочах и поэтому чаще всего хватаемся за второстепенное, малосущественное, иногда даже бросовое, теряя чувству перспективы при взгляде на человека и снижая в своем представлении образ целого.
Второе, к сожалению, весьма часто встречающееся явление заключается в том, что для подавляющего большинства творческих личностей жизнь это одно, а творчество – совсем другое.
Лишь у относительно немногих людей жизнь и творчество связаны между собой в единое, нераздельное целое, так что в творчестве сполна отражается личность, а в личности – творчество.
Такого рода до конца пронизанные своей идеей лица, заполненные без остатка единым содержанием, вообще в жизни встречаются весьма редко.
Существует два вида интеллектуальной деятельности.
При первом интеллект спокойно обдумывает то или иное явление и затем, адэкватно этому обдумыванию или связанному с ним решению, реагирует соответствующим образом вовне.
При второй форме действие не является последним заключительным звеном предварительной интеллектуальной работы, а вытекает лишь из части этой интеллектуальной работы, а иногда даже целиком опережает ее.
В этих случаях не все элементы действия бывают логически увязаны с предшествующей интеллектуальной работой и поэтому не могут сполна характеризовать ее.
Иногда, в острые моменты, жизнь заставляет скороспело резать то, от чего в невынужденных условиях, в состоянии объективного отношения к действительности, просто воздержался бы, отошел, как от чего-то , что не дает решения, равноценного предшествующим размышлениям, так как привык в спокойном состоянии смотреть через головы события сегодняшнего дня с большим, чем бывает нужно в таких случаях, историческим, и, что особенно важно, психологическим пониманием окружающего.
Эти вынужденные решения и вынужденные действия, не довершенные по своей структуре, не могут сполна характеризовать свою личность в целом, а лишь свойственную ей большую или меньшую находчивость или ненаходчивость, а также большую или меньшую внушаемость или резистентность по отношению к внушаемости.
Есть лица, у которых эта вторая форма интеллектуальных проявлений сказывается значительно чаще, чем у других и при этом даже не в вынужденно спешные моменты жизни, а иногда и в простых житейских случаях. Отсюда умные мысли и глупое связанное с ними поведение.
Известная пословица: «русский человек задним умом крепок» – имеет в виду эту категорию людей и свойственную им вторую форму интеллектуальной деятельности.
Психическая жизнь каждого человека не одинакова на протяжении суток. Так, ночная пора представляет собой совершенно особый раздел человеческой жизни со своими особыми как физиологическими, так и психическими проявлениями в вечернее, ночное и предутреннее время, не только в состоянии сна, но даже в состоянии ночного бодрствования, совершенно иные, нежели днем.
Как известно, некоторые физиологические акты происходят исключительно ночью, другие по преймуществу в ночное время (например, роды).
Наша сексуальная жизнь осуществляется почти исключительно в ночное время (как известно, совершенно иное имеет место у животных, где эта функция обычно осуществляется днем). Это и понятно, если учесть ее эмоциональный характер и то, что наша эмоциональная жизнь в ночное и вечернее время значительно больше выступает на первый план, нежели днем.
Днем мы суше, деловитее, – если так можно выразиться – реалистичнее, вечером – чувствительнее.
Этим отчасти объясняется далеко не случайный факт, что целый ряд впечатлений, зрелищ, мы наиболее склонны воспринимать во вторую половину дня, когда больше и легче выступают на первый план процессы эмоциональные.
Так, театр, кино, концерты, чтение по беллетристике, обычно выпадают на вторую половину дня.
Теперь, когда стали широко пользоваться радиом, можно слушать концерты в любое время дня. Однако, и сейчас звучат некоторым диссонансом и производят впечатление чуждости музыкальные исполнения, раздающиеся в семь, восемь часов утра в период наиболее трезвого, делового состояния после ночного сна и во всяком случае значительно меньше доходят до сознания и чувства воспринимающего, нежели это бывает в вечернее и ночное время.
Утром мы, как правило, бодрее, жизнерадостнее, улыбчивее, вечером – грустнее, пессимистичнее.
В патологических случаях эти отношения нередко изменяются прямо в обратном порядке.
Все поведение человека в дневное время, на людях, в условиях общения с людьми, часто содержит в себе целый ряд черт и особенностей, которые отсутствуют в ночную пору.
Сюда входят все те формы поведения, при посредстве которых человек невольно желает казаться лучше перед другими, сдержаннее, опрятнее и в связи с этим вся обстановка его жизни должна казаться чище, красочнее. Словом, днем – сознательно и бессознательно – часто осуществляется то, что определяется общим термином «орнаментация жизни».
Ночью, в одиночестве, нет орнаментации жизни – все поведение человека теряет в ночном одиночестве значительную часть своей социальной направленности, обескрашивается и упрощается.
Самоутверждающаяся личность нередко теряет всю свою уверенность и свою, казалось бы, бесспорную для самого себя убедительность.
При таких условиях и сам человек в своих собственных глазах, и все окружающие его явления, представляются ему нередко оголенными до своей первобытной сущности, которая в таких случаях часто кажется непонятной, нелепой и трагической.
Ночью человек менее реалистичен, более мистичен. Трезвость в большей мере свойственна дневному бодрствующему состоянию, нежели вечернему и ночному.
В основе этого лежат глубокие психологические основания.
Все сумеречное, ночное, с одной стороны, все таинственное, мистическое с другой – близкие друг другу понятия. Они объединяются отсутствием в них четких контуров и форм, наряду с наличием беспредметной пространственности. В ночном нами воспринимается не простой плоскостной мрак, а глубина этого мрака, беспредельность его.
Отсюда все наши переживания, построенные в унисон с этим ночным, созвучные ему (то есть лишенные четких форм, беспредметные и в то же время глубинные, пространственно неограниченные, начинают более всего звучать в ночное время.
Отсюда:
Die Nacht ist tief
Und tiefer als der Tag gedacht
(«Ночь глубока, и глубже, чем думал день». Ницше).
Таинственность и жуткость ночи, навевающей совершенно особые, нередко мистические настроения, в противоположность четкости и уверенности дневных переживаний, очень тонко отмечает Тютчев:
«На мир таинственный духов,
Над этой бездной безымянной,
Покров наброшен златотканный
Высокой волею богов.
День – сей блистательный покров –
День – земнородных оживленье,
Души, молящей исцеленье,
Друг человеков и богов!
Но меркнет день – настала ночь;
Пришла – и с мира рокового
Ткань благодатного покрова
Сорвав, отбрасывает прочь…
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами:
Вот отчего нам ночь страшна…
Повышенная эмоциональность ночного времени обуславливает также и то, что ночь для религиозно настроенных людей – это пора молитвы, то есть период эмоционально насыщенных переживаний.
День в меньшей мере время для молитвы, нежели вечер и ночь. «Я вообще заметил – говорит один из персонажей Достоевского, – что днем всегда вера несколько пропадает».
Этим быть может также объясняется тот факт, что в ритуале христианского богослужения Вечерня и Заутреня занимают первое место, как наиболее торжественные и поэтому наиболее важные разделы его.
Это особенно касается переживаний мистического характера.
Так, в Египте мистерии Озириса тоже всегда проходили по ночам. Ночью, в периоды бессонницы чаще, нежели днем, приходят мысли о неизбежном конце всего живого – о смерти.
Многие состояния угнетения, тоски, тревоги, возникают или усиливаются чаще всего в ночное время, в периоды бессонницы или в предутренние часы.
В состоянии бессонницы создается иллюзорное преувеличение времени: время отсутствия сна субъективно кажется значительно большим, более продолжительным, нежели в действительности.
С другой стороны, и некоторые моральные переживания – сознание своей вины, муки совести и нередко связанные с ними справедливые решения, тоже выпадают на ночную пору.
Можно было бы привести немало примеров для характеристики этих особенностей ночного времени.
Так, у Пушкина имеется замечательное описание ночных переживаний и ночного настроения в периоде бессонницы:
Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон – дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья.
И далее:
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
Как не похож этот Пушкин с его… и покаянным настроением на Пушкина дневного, хорошо всем нам известного, с солнечной ясностью его переживаний, как это прекрасно иллюстрирует различие нашей психики в ночное и дневное время!
Что ночь – это период совершенно особых, резко отличных от дневных переживаний, лучше всего можно иллюстрировать на чрезвычайно, на наш взгляд, ярком примере психического состояния человека в лунную ночь.
Так, связь лунной ночи с сексуальностью, с романтикой, настолько ярка и очевидна, о ней в общежитии так много говорится, что странно, что до сих пор это явление, насколько нам известно, еще не служило предметом специального психологического анализа.
А между тем известно, что целые разделы в искусстве – очень много в лирической поэзии, в музыке, в сольном пении, специально посвящены переживаниям этого периода.
Интересно, что все относящиеся сюда произведения искусства поражают удивительной однородностью заключенных в них переживаний, что особенно подчеркивает универсальный характер такого рода психических состояний.
Свидание Ромео и Джульетты, Дон-Жуана и Донны Анны, Самозванца и Марины как-то трудно даже себе представить вне лунной ночи.
В противоположность этому ясная звездная ночь, навещающая созерцательность, бывает часто связана с космическими и религиозно-космическими переживаниями.
«Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит».
Если ночь больше дает матерьяла для мистики, мистических переживаний, то лунная ночь – для романтики.
Все мистическое боится дня, оно чаще всего связано с мраком или хотя бы полумраком, тогда как романтическое и сексуальное – с матовым светом луны, реже с солнечным закатом (никогда не с восходом).
В одном из прелестных рассказов Мопассана «Лунный свет», психологически чрезвычайно тонком, весьма убедительно показано, как лунный свет способен совершенно изменить психологию человека, заставить его начать совершенно по иному чувствовать, совершенно по иному переживать.
В другом своем произведении («На воде») Монпассан пишет: «Я всегда считал, что луна имеет какое-то таинственное влияние на человеческий рассудок. Она заставляет бредить поэтов, делает их очаровательными или смешными и действует на нежность влюбленных, как действует катушка Румкорфа на электрический ток. Человек, спокойно любящий при солнце, начинает при луне начинает неистовствовать.
Все, о чем мы смутно и напрасно мечтаем в этом мире под лучами луны, волнует наши сердца, как нечто бессильное и таинственное.
Когда мы глядим на нее, в нас зарождаются несбыточные мечты, неукротимая жажда беспредельной любви.
Ничто в такой мере не располагает к сексуальным проявлениям, как лунный свет, лунная ночь.
Особенно в естественных природных условиях этого света – в обстановке сада, леса, берега реки, моря.
Чувствуется, что как-будто между сексуальностью и лунным светом существуют какие-то скрытые, невидимые для глаз, однородные ритмы.
Любовь и ночь.
Эти понятия особенно близки друг-другу.
«Какое сильное опьянение – говорит Роденбах, – придает любви наступающий вечер!
Отрадно чувствовать себя вместе, когда все вокруг стирается, угасает, исчезает, сливается с мраком, который является наглядным изображением небытия и отдается сну, который представляет собой подобие смерти.
Самые мрачные влюбленные понимают это и стремятся друг к другу в сумерки. Однако, больше всего сумерки и ночной мрак привлекают своей интимностью, а любовь всегда интимна.
В противоположность этому холодный белый день, или день деловитый, тревожно-ветряный, или бесцветно-будничный, наиболее далек от любви.
Ночные ласки, ночные слезы, вздохи, стоны, ночные раскаяния часто совершенно иные, чем в дневное время.
Вместе с тем ночь, ночное время, особенно приближает нас к идее смерти. Существует совершенно особая психология – психология вечернего и ночного времени, построенная на иных началах, чем психология дня.
Медики говорят о разных состояниях вегетативной нервной системы в дневное и ночное время, но это, конечно, пока только голый научный вербализм, как и в некоторых других областях науки, еще ничего не объясняющий.
Особенно тяжело ночное время в состоянии болезни.
Вечер и ночь для больного человека самый тягостный период, если не в отношении его непосредственных болезненных проявлений, которые могут оставаться неизменными, то в отношении его самочувствия, которое при этом часто изменяется в худшую сторону.
Оставшись наедине с самим собой, не отвлекаясь внешними впечатлениями от своих скорбных мыслей, ощущений и переживаний, находясь в условиях общеночного замирания жизни – тишины, темноты – видя возле себя спящих, то есть как-бы ушедших от жизни, от реальности, потому совершенно безучастных к его переживаниям людей, больной человек еще больше ощущает свое одиночество, свою беспомощность, все свои недуги.
В этом периоде, особенно уязвимом и поэтому особенно беззащитном, более всего следует прийти к нему на помощь.
Как узок и ограничен диапазон человеческой психики, какая здесь царит удручающая повторяемость!
Это особенно резко бросается в глаза в явлениях патологических, так как все патологические уклонения человеческой психики, независимо от природной одаренности человека, степени его развития и прочего, в конечном итоге вмещаются в чрезвычайно ограниченный и до крайности однородный круг явлений.
Иногда кажется, что все хорошие слова уже сказаны, все основное человеческое уже пережито и в дальнейшим будут лишь повторения.
Такого рода ощущения ни в какой мере не говорят о плоскости жизни вообще, они не уплощают ее, не отнимают от нее заложенных в ней, еще раскрытых, быть может, даже беспредельных возможностей, не лишают ее тайн.
Они говорят лишь о пределах данного измерения, о границах возможного лишь на сегодняшний день всеохвата.
Они также еще в большей мере говорят об ограниченности только постигаемого чрез посредство органов чувств, только пространственно-временного, только трехмерного.
Наглость от застенчивости – об этом никто не говорит, а между тем, такого рода явление встречается весьма нередко.
Излишняя развязность чрезмерно скромных людей, бретерство трусливых – все это лишь различные формы сверхкомпенсации субъектом своей инаковости, социальной малоценности.
Психическая жизнь в процессе компенсирования ее слабых, наиболее уязвимых сторон, легко переходит через край этой компенсации, создавая гиперболически заостренные феномены, уже прямо противоположного характера.
Застенчивость перед людьми. Но бывает застенчивость перед миром – перед животными, растениями, скалами. Скромное, деликатное чувство к ним. Таков в своей основе духовный облик Чехова.
Некоторые мысли нежелательно подумать до конца даже для себя. Это совершенно новое, еще не описанное явление психологии и психопатологии – симптом боязни собственных мыслей.
Подобно избытку спор у растений, в человеческих переживаниях существует также избыток устремленности – предчувствия, интуиции, неясных переживаний, остающихся до конца жизни ненасыщенными и лишь постепенно с годами затухающих.
У ребенка свежи впечатления благодаря своей конкретности. У него еще мало общих понятий, у нас избыток общих понятий часто заслоняет собой непосредственную свежесть жизненных впечатлений, превращая все в штампы и трафареты.
Таким образом, присущее только взрослому человеку абстрактное, категориальное мышление – мышление в понятиях – имеет и свою слабую сторону в смысле снижения остроты простого, непосредственного, предметного восприятия.l
Отсюда навсегда утраченная нами «радость от вещей» – их вида, запаха, вкуса и прочего…
Кроме того, в жизни, в мировоззрении и в мироощущении каждого человека безраздельно господствует узко выборочный подход к жизненным явлениям, чего еще в такой мере не заметно у ребенка, психическая жизнь которого пока еще остро восприимчива к чувству новизны, будучи широко открыта для всякого рода новых впечатлений.
«Жизнь и профессия несовместимы – говорит Блок, – чем меньше живешь, тем больше успеваешь в профессиональном отношении, и наоборот.
Эту мысль надо расшифровать. Не то, что это какая-то неустранимая антитеза, так как и в профессии, если только она близка и дорога, тоже много жизни.
Однако, следует сказать, что полноценная, многогранная жизнь, включающая в себя и ее созерцательные элементы, и ее осознавание на разных этапах ее развития, и ее подытоживание, включающее в себя также элементы хорошего «неделания» – несомненно, несовместима с той формой профессиональной деятельности («деловитости» в худшем смысле этого слова), которую от нас требует повседневная жизнь, принуждая к напряжению всех наших сил и в конце-концов беря всего человека целиком, не оставляя ему досуга для какой либо иной личной или неличной жизни.
В этом только смысле и при таком понимании [профессионализма] антитеза действительно останется во всей еe заостренности. В профессии обычно в большей или в меньшей степенисказывается личность, однако чаще всего не сполна, так как в преобладающем большинстве случаев профессия, профессиональная занятость, не создают возможностей для всестороннего выявления личности, реализации ее запросов.
Многое из основных запросов личности чаще всего остается за пределами повседневной профессиональной занятости, суетливой загруженности ее все возрастающих требований, предъявляемых человеку.
В результате нередко получается то, о чем так метко говорит Толстой. «В городе – говорит он, – человек может прожить десятки лет и не хватится того, что он уже умер и сгнил. Разбираться с собой некогда – все занят».
Профессия чаще всего – форма приспособления к жизни («деваться некуда»).
В других случаях – уход от скучности жизни, или бегство от ее сложности, очень удобный футляр для того, чтобы прятаться от реальности, своего рода броня, защищающая от некоторых неприятных ситуаций и от некоторых «проклятых» вопросов, так как в профессии проще, уютнее.
Такова профессиональная точка зрения: – «это не по моей специальности», «этому я не обучался», подобно школьному: «у нас в школе этого не проходили».
Для некоторых профессия – это своего рода щит, которым они прикрывают свое духовное ничтожество, пустое место своей души. Отымите профессию и у них не останется решительно ничего, что делать, чем заняться в жизни, хоть сиди целый день и раскладывай пасьянс.
Для некоторых – маскировка (форма укрытия своего главного, стержневого).
В дальнейшем – привычка. В лучшем случае – поздняя любовь («вошел во вкус»).
Уют оседлых профессий, романтика свободных.
Для многих – судьба, рок. «Человек, стремящийся стать не тем, что он есть – говорит Оскар Уайльд, – членом парламента, преуспевающим лавочником, выдающимся чиновником, судьей или чем-нибудь еще, столь же скучным, – всегда достигает того, к чему он стремится. В том его кара. Кому нужна маска, тот должен носить ее».
И только для сравнительно немногих профессия – это нечто стихийно выявляющееся, даже с ранних лет, как одностороннее тяготение, влечение, страсть. Или как самонахождение (нашел себя, приладил к себе профессию, как ключ к замку).
Если многие среди первой, самой распространенной категории, еще колеблются в выборе профессии, – профессионально бесчувственные люди, – то здесь с самого начала нет колебаний в выборе. Здесь осуществляется максимальное срастание профессии с личностью.
Амбивалентная значимость многих профессий.
Как часто с невольной жалостью смотришь на некоторых лиц, прикованных к тачке своей профессии, лишенной широких горизонтов, воздуха, настоящей свободной природы.
К тому же, будни всякой профессии в не меньшей мере, чем будни жизни вообще, но лишь с большим обязательством, представляют собой стереотипии, повторяемости, выявление привычных навыков, автоматических мыслей, автоматических действий.
В этом, с одной стороны, есть положительная сторона – величайшая ценность в жизни профессионального опыта (опыта врача, юриста, бухгалтера, счетовода, портного, слесаря, плотника и прочих), а с другой – отрицательная: удручающая повторяемость – стократная, тысячекратная одних и тех же действий, мыслей, ситуаций, стирающая остроту восприятия жизни, как источника подлинного чуда, подлинной неповторимости.
Миросозерцание человека в значительной мере зависит от характера его профессиональной деятельности. В этом отношении некоторые профессии по своему содержанию и по своей направленности больше приближаются к идее причинности, иные – к идее судьбы.
Причинность, в свою очередь, может быть с одной стороны идеалистической, с другой – материалистической.
Идея судьбы чаще всего порождает либо агностицизм, либо идеалистическое миропонимание.
Профессии, оторванные от непосредственного матерьяльного субстрата жизни, изящная литература, искусство, философия, дают больше оснований для создания идеалистического мировоззрения, построенного на началах идеалистической причинности, причинных соотношений в области эстетических, моральных, религиозных понятий.
Профессии, непосредственно соприкасающиеся с жизнью и при этом не в ее широком охвате, а в пределах ограниченных практических запросов, способствуют развитию материалистического мировоззрения, построенного на причинных соотношениях матерьяльного характера.
Такова, например, профессия врача.
Врач не соприкасается в полной мере с жизнью, как таковой, так как имеет дело не с полнотой, многогранностью биоса, а лишь с дефектами, более или менее грубыми изъянами этого биоса, посколько болезнь есть минус жизни, несмотря на все попытки возмещения и заполнения этого минуса, которые при этом проявляются.
Таким образом, врач в своей профессиональной деятельности соприкасается с низшей стороной жизни, не с той ее стороной, в которой сказывается стремление оторваться от реальности (следовательно, не с высшими эстетическими, моральными и религиозными устремленностями), а с той, которая связана с грубо матерьяльным субстратом ее (воспаление, кровоизлияние, болезни отдельных органов – желудка, печени, почек и прочих.
Все это дает основания для создания причинного мышления в его грубо матерьялистической форме, нередко крайне упрощенного, с умозаключениями, построенными по типу «курцшлюса» (так как психические факторы болезни и умирания при этом часто совершенно игнорируются).
Профессия моряка, в меньшей степени земледельца, всецело зависимые от стихийных сил природы, от непредвиденности этих стихийных явлений (от явлений шторма, бури или от явлений недорода, засухи, в известной степени препятствующих развитию причинного мышления, в большей мере создавая представление о роли судьбы, рока, легко порождая веру в предчувствия, приметы, толкая в смысле общего мировоззрения либо в сторону агностицизма, либо – что значительно чаще бывает, – в сторону построения идеалистического, преймущественно религиозного миросозерцания.
Этим, быть может, частично объясняется преймущественное распространение религиозных исканий (отдельных вероучений, сект) среди крестьянских слоев населения, чего не наблюдается в такой мере среди городских рабочих. Некоторые профессии могут включать в себя в разной степени элементы романтики.
Есть, однако, профессии, совершенно лишенные примеси романтизма. Это все профессии «без черемухи».
Отдаленность зрительных и слуховых впечатлений порождает их последующую идеализацию, порождает романтику.
Есть что-то сладостно-грустное в отдаленном свистке паровоза, есть что-то таинственно зовущее в матово фиолетовой дали гор, степей, облаков.
Издали идущий корабль, направляющийся в строго определенное место с вполне прозаическою целью, менее всего производит впечатление деловитости, представляя собой на фоне неба и моря нечто романтически прекрасное, беспредметно влекущее.
Таков, например, издали наблюдаемый парусный дубок, стереотипно перевозящий раз в неделю кирпич или арбузы из Одессы в Голую Пристань. Быть может, такой же сугубо прозаический дубок, видимый издали на фоне голубого моря и неба, вдохновил в свое время Лермонтова на стихотворение «Белеет парус одинокий» с его заостренно-романтическим: «А он, безумный, ищет бури, как будто в буре есть покой».
Эта присущая всем нам последующая идеализация всего отдаленного в пространственном отношении касается еще в большей мере всего отдаленного в отношении временном, особенно сказываясь на наших воспоминаниях и на наших представлениях о будущем.
Отсюда идеализация нами нашего прошлого, детского и юношеского периода жизни, прошлых исторических эпох, отсюда невольное представление о многих выдающихся лицах прошлого в плане «монументального» стиля (то есть такими, какими они выступают на сооруженных в память их памятниках).
Мягкость дали. Пространственной, временной.
Мягкость контуров, нежность красок, акварельная прозрачность отдаленных берегов, гор, леса, крайних пределов горизонта – моря, поля.
Мягкость воспоминаний, исторических образов, прошедших эстетических и моральных впечатлений.
Это не только особенность наших восприятий и не только символика, это свойство, присущее всем формам нашей идеологии.
Все предметы, лица, явления, события, не только радостные, но и печальные, в меньшей мере, конечно, трагические, по мере удаления от нас во времени и в месте, все больше смягчаются, нежно вуалируются легкой дымкой, принимают акварельную прозрачность.
Все монументальное (памятники, надгробные монументы, здания в древних стилях) имеет отношение по преимуществу к прошлому. Монументальный стиль является главным образом стилем воспоминаний, включает в себя романтику воспоминаний, посколько при жизни, особенно в условиях повседневного общения даже с выдающимися людьми, не создается условий для монументальности.
Вот почему прижизненные монументы, особенно лиц, доступных множественному общению, никогда не получали в истории широкого и длительного распространения.
Подобная же идеализация отмечается и по отношению к будущему.
Как известно, народное воображение в своих древнейших сказаниях и легендах, создавая представление о лучшей поре в жизни человека, о рае совершенной райской жизни, мыслит себе рай лишь во временной отдаленности – либо в бесконечно далеком прошлом (райская жизнь первых людей), либо в бесконечно далеком будущем ( будущая райская жизнь праведников после страшного суда).
Вся историческая актуальность социалистических, коммунистических и архаических идей построена на романтике будущего. Эта пространственная и временная идеализация сказывается в человеческом творчестве, особенно в религии и в искусстве, однако среди разных видов искусства она проявляется не в одинаковой степени.
Скульптура лишена дали и это снижает ее романтику. В ней нет больших пространств.
Интересна попытка Родэна как бы завуалировать свою скульптуру и придать ей характер большей романтичности, нечеткости, затуманенности, отдаленности.
В музыке есть иммитация отдаленности, не говоря уже о совершенно ином впечатлении от музыки, доносящейся издалека. В последнем случае иногда даже вульгарная мелодия, отдаленно слышимая нами, совершенно преобразуется, облагораживаясь и принимая характер чего-то романтически прекрасного, влекущего. Эхо таинственно и поэтично, ибо оно отдаленно.
Все прозаическое, деловое вблизи, становится романтически влекущим, будучи отдаленно в пространстве и во времени.
Таков, как мы уже сказали, общий закон всех наших восприятий.
А может быть правда именно в нем, а не в чем либо другом. Быть может, жизнь в большем масштабе более таинственна, более прекрасна, более значительна, нежели в малом масштабе непосредственной близости к ней?
Быть может, все то, что обнаруживается на расстоянии, не иллюзия, не одно из проявлений слабых сторон нашей психической деятельности, а нечто стержневое, самое главное, что обычно бывает скрыто за сугубой конкретностью непосредственной реальности со всем присущим ей нагромождением, деталями?
Быть может, трезвость, практицизм, деловитость и реальность это все лишь атрибуты данного, очень ограниченного отрезка времени, свойства минуты, а не большого, настоящего, вневременного.
Ведь все наши идеологические устремленности, все содержание нашей целенаправленности, как отдаленные во времени, и при этом мыслимые нами лишь в самых общих чертах, неизбежно бывают рафинированными и идеализированными, а иначе они утратили бы свое стимулирующее действие на наше поведение.
…Мы говорили о значении в жизни незаконченных образований. Наличие такого рода ненасыщенных структур порождает с нашей стороны неодержимое стремление к их полноте, насыщению.
Отсюда общераспространенная потребность в довершении – потребность в исходе, концовке, в эмоциональном и логическом насыщении, что особенно сказывается в творчестве – в науке, в искусстве.
В области искусства это меньше всего заметно в лирике, которая иногда может выявляться в обрывочной, недовершенной форме, больше в романе, повести, симфонии, особенно в драме и вообще театральном действии.
Отсюда же столь нередко отмечающаяся в пожилом возрасте тенденция подвести итоги всей своей жизни или же вообще построить все свое поведение так, как оно наиболее представляется характерным со стороны лучших проявлений нашей личности (потребность как бы дорисовать в жизни свой портрет).
Психологическую жизнь человека обычно принято рассматривать как единое целое, состоящее из однородных по своему характеру проявлений.
Такое понимание представляется неправильным, так как по существу мы не наблюдаем единообразия в психических проявлениях.
Мы уже указывали на различие психической жизни в дневное и ночное время со всеми ее интеллектуальными и эмоциональными особенностями, со всеми ее поведенческими реакциями.
Столь же различными представляются, по нашему мнению, основные разделы психической жизни, относящиеся к прошлому (психология того, как было «вчера»), к настоящему (психология «сегодня» и особенно всего того, что происходит «сейчас»)и, наконец, весь комплекс психических переживаний, относящийся к тому, что будет «потом» (психология «завтра» и вообще будущего).
Из этих трех разделов два крайние раздела – прошедшее и будущее, [как мы уже отмечали], в наибольшей мере подвержены последующей идеализации и эта идеализация все больше нарастает по мере удаления вглубь прошлого или вглубь будущего (то есть по мере отдаления от «вчера» и от «завтра»), в то время как наибольшей трезвостью отличается «сегодня» и, в частности, все то, что происходит «сейчас», так как последнее носит в себе признаки наибольшей конкретности и непосредственности.
Иногда прошлое целиком захлестывает собой настоящее, в других случаях это же настоящее целиком заполняется будущим.
В обычное время психология «сейчас» в значительной мере сдерживается, регулируется и направляется воздействием на нее всей массы «вчера» и всей массы «завтра», или хотя бы отдельных их элементов.
В иных случаях (например, у детей, а также иногда и у взрослых), эта психология «сейчас» бывает совершенно независимой как от предшествующих, так и от последующих образований. Отсюда столь типично, по мнению Владимирского, «торжество момента» у детей (что роднит их в этом отношении с животными), отсюда те формы поведения взрослых, которые определяются термином легкомыслие, беспечность, принимающие иногда в крайних формах своего выражения характер преступной беспечности, преступного неучета всего предшествующего и последующего («Apres nous le deluge»* – по знаменитой формуле Людовика XIV).
• «Після нас хоч потоп» (з французької)
Мы говорили о последующих изменениях, и в частности, последующей идеализации событий, отдаленных от нас на больший или меньший период времени.
Проблема воспоминания не раз привлекала к себе внимание Пушкина. Очень интересно с точки зрения этой проблемы его отношение к Бахчисарайскому фонтану.
Вот как описывает он свое впечатление от этого фонтана непосредственно тотчас же после посещения Бахчисарая (письмо 1824 г.)
«Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадой на небрежение, в котором истлевает… Раевский почти насильно повел меня по ветхой лестнице в развалины гарема».
Таково было первое непосредственное впечатление Пушкина. Однако, спустя длительный период времени, уже находясь далеко на севере, Пушкин в совершенно ином свете вспоминает Бахчисарайский фонтан:
Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы,
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.
Твоя серебрянная пыль
Меня кропит росою хладной:
Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!
Журчи, журчи свою мне быль…
Фонтан любви, фонтан печальный!
И я твой мрамор вопрошал.
Или в другом месте:
Таков ли был я, расцветая,
Скажи, фонтан Бахчисарая!
Такие ль мысли мне на ум,
Навел твой бесконечный шум?
Пушкин был поражен искажающим действием воспоминаний, часто наступающей и резко бросающейся в глаза идеализацией прошлаго. Пушкин остро чувствовал «романтику» наших воспоминаний и сам в… останавливался перед ней.
Позднее, в письме Дельвигу (1824 г.) он пишет: «Растолкуй мне теперь, почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием? Или воспоминание самая сильная способность душе нашей, и им очаровано все, что подвластно ему?».
Эта страничка из жизни Пушкина может, как нам кажется, служить яркой иллюстрацией, характеризующей сущность наших воспоминаний.
Наши воспоминания всегда представляют собой в большей или меньшей мере творческий процесс и поэтому не могут быть рассматриваемы как простое повторение действительно бывшего.
Прошлое это не только механически отодвинувшееся от нас во времени, которое мы можем по сохранившимся в нас отпечаткам снова восстанавливать в своем воображении и сопереживать. Прошлое всегда своеобразно ново. Это совершенно особый стиль идей, эмоций, особая форма построения мышления, это целый раздел культуры, который может быть объединен общим наименованием «культуры воспоминаний».
Историк, как нам кажется, должен постоянно делать над собой усилия, чтобы удержаться от искушения впасть в своеобразную «романтику воспоминаний». Это все, однако, не опорочивает наших воспоминаний.
Воспоминание все же правдивее непосредственного переживания, так как оно, во-первых, более суммарно и вследствие этого охватывает явления в большем объеме, нежели отдельные непосредственные переживания, а во-вторых, оно сравнительно, так как имеет в своем распоряжении больший масштаб для сопоставления (запас опыта).
Все-таки в прошлом мы часто были действительно лучше или это прошлое само было лучше, или оно нами лучше переживалось. [Возвращение к этому лучшему нередко является единственным, что поддерживает нас в нашем настоящем].
В идеализации прошлого и будущего сказывается не только иная эмоциональная установка к этому прошлому и этому будущему, но и совершенно иная форма логических суждений и умозаключений. «Логика сейчас» нередко теряет свой строгий характер, перестает быть в такой же мере последовательной по отношению к прошедшему и особенно будущему, как по отношению к настоящему. Отсюда часто встречающиеся умозаключения о прошлом и о будущем, построенные по типу «курцшлюса» – чрезмерного упрощения и схематизации того, что фактически представляется неизмеримо более сложным. Так, согласно некоторым наивным идеям прогресса человек в будущем непременно станет почему-то лучше, а общественное устроение упростится и успокоится на какой-то элементарной, соответствующей нашим желаниям форме. С другой стороны, в отношении [предшествующего свойственно] чрезмерно схематичное, упрощенное представление о прошлых исторических эпохах, отдельных событиях, отдельных лицах.
Страдание и печаль «сегодня» становятся совершенно иными, переносясь в прошлое и даже иногда в дальнейшем принимают прямо обратный характер (приятная грусть при воспоминании о некоторых событиях, вызывающих в свое время значительное страдание или значительно выраженную печаль).
Из всех эмоциональных состояний боль меньше всего связана с прошлым и с будущим. Боль – это та форма эмоциональности, при которой обычно безраздельно царит «торжество момент». Боль в настоящем резко различается от боли в прошлом (в воспоминаниях о ней); болевые реминисценции обычно бывают не только выхолощены в эмоциональном отношении, но и иллюзорно сокращены во времени.
Из всех патопсихических проявлений импульсивные влечения и импульсивные действия отличаются с тем, что совершенно не связаны ни с прошедшим, ни с будущим, при них тоже безраздельно царит «торжество момента».
Некоторые формы героизма, героики поведения, представляют собой выражение психологии «сейчас». По-видимому, правы те немецкие психологи, которые выдвигают понятие Momentalpsichologie, «психологи отдельных моментов».
Явление простоты, упрощенности понимания и выражения представляют собой сложные и неоднородные феномены.
Необходимо различать двоякую форму упрощенности – низшую и высшую ее формы (простота, как выражение известной слабости и простота, как выражение определенной силы).
Первая форма простоты – психический примитивизм, часто является источником многих форм жизненной грубости, глухого непонимания, тупой жестокости.
Здесь все суждения и умозаключения нередко осуществляются по чрезмерно укороченным путям, игнорируя сложность и многообразие целого, здесь отпадают все переходы и нюансы аффективных проявлений, что порождает топорные формы эмоциональных и поведенческих реакций.
Выражение: «sancta simplicitas» часто употребляется в случаях, когда бросается в глаза примитивизм, недомыслие и отсюда решения вопроса по типу курцшлюса.
«Усложнившаяся жизнь – справедливо говорит Короленко, – требует усложненных форм взаимодействия и наталкиваясь на упрощенные формы, ежеминутно испытывает [боль].
Наряду с этим примитивизм часто может быть по-своему мудр, посколько прямое и простое решение есть нередко вместе с тем наиболее разумный выход из тех ситуаций, при которых порой создается крайнее нагромождение ненужных факторов и взаимоотношений между ними, заставляющих искать какой-то особенно сложный выход вместо простого и прямого.
Примитивизм, связанный с определенными историческими эпохами и отображающийся в искусстве и в литературе (например, в живописи и поэзии древних исторических периодов, в творчестве итальянских художников-тречентистов, созидателей сказки, былины и прочего), характеризующийся упрощенным пониманием и упрощенными техническими приемами, часто сочетается с такой глубиной и насыщенностью переживаний и таким совершенством восприятия, что производит на нас сильнейшее эстетическое впечатление.
Это та первичная, первозданная простота, о потере которой человечество скорбит в своей легенде об утраченном рае.
В примитивизме нас привлекает и трогает детски-упрощенное представление мира, дорогое нам по воспоминаниям, наивно-ясное, когда весь мир представляется проще, правдивее, теплее, задушевнее, когда не воспринимается все усложняющее, как ненужное.
С другой стороны, примитивизм в искусстве часто бывает прекрасен, в нем скрыта потенциальность, готовность, ненасыщенность, смутно угадываемое доразвитие в будущем совершенной формы.
Точно так же некоторые психически упрощенные (наивные) личности могут проявлять наряду с этим упрощенством величайшую моральную чуткость и ясность понимания (таковы некоторые герои Достоевского, например, князь Мышкин, о особенно целый ряд персонажей Толстого – Платон Каратаев в «Войне и Мире», Аким во «Власти Тьмы» и прочие.
Невольно [восхищаешься] тем, как много среди хороших людей психических примитивов! По-видимому, есть форма «хорошести», связанная с примитивизмом, быть может, даже обусловленная этим примитивизмом!
Нужно заметить, что вообще очень часто героями народных сказаний, а также литературных произведений, являются примитивные, но благородные, нравственно чутки люди, обладающие как-бы большей по сравнению с другими разумностью, благодаря отсутствию у них непрямых путей в мышлении и во все поведении. Эти же качества придавали в свое время некоторым примитивам в глазах народа ореол святости (святость наивности, святость упрощенства).
Таким образом, упрощенность может осуществляться в двух взаимно-полярных формах: с одной стороны, она может служить выражением максимальной сгущенности, и стало быть, максимальной полноты и насыщенности переживаний, представляя собой высшую степень преодоления всей сложности конкретных жизненных явлений и их взаимоотношений, как подытоживание большего и глубокого предыдущего жизненного опыта, с другой, эта же упрощенность может служить выражением крайнего обеднения признаками сложных понятий, выхолощенной редукции их, сведения их к чему-то сугубо элементарному.
Примитивизм как скудость, мизерабильность, убогость содержания, и примитивизм, как простая, наивная форма передачи глубоких переживаний.
Примитивизм нельзя смешивать с простотой.
Простота и примитивизм не однородные понятия.
Простота является понятием общим, тогда как примитивизм – частным. Примитивизм – это лишь частный случай простоты, ее первобытная или ее детская форма.
Иногда под влиянием непреодолимой сложности и противоречивости жизни мучительно хочется снова вернуться к безвозвратно утраченному, наивно-ясному ее пониманию. Donner moi de la simplicite* – молит Провидение Верлен.
Простота и искренность – родственные понятия.
Все искреннее обычно бывает и просто.
Точно так же скромность и простота являются родственными понятиями. Все скромное – просто.
Простота часто бывает не примитивной – такова, например, простота выражения сложных внутренних переживаний.
В других случаях мы имеем обратное явление: можно наблюдать сложность внешнего выражения при элементарных (примитивных), мало дифференцированных переживаниях.
Простота часто есть высшее проявление человеческого духа, выявление его глубинной сущности.
Можно сказать, что существуют в структурном отношении очень сложные формы простоты.
Можно говорить о простоте представлений (пейзаж и человеческие фигуры у итальянских кватрочентистов, стилизованный пейзаж и образы святых в живописи Нестерова), и о простоте непосредственного восприятия (уголок русской природы у Левитана или описание ее у Тургенева).
Известно изречение, что нет ничего сложнее простоты.
Говоря о творчестве Шардэна, всю жизнь изображавшего на своих картинах лишь самое простое и обыденное, Мутер справедливо отмечает, что «искусство таится в несказанной простоте, которая тем больше приковывает к себе, чем меньше она когда-нибудь встречалась раньше».
Вересаев извлек из воспоминаний современников любопытное суждение знаменитого художника Федотова. Когда в присутствии Федотова восхищались простотой, которой проникнута одна из его замечательных картин, он сказал: «Да, будет просто, когда поработаешь раз со сто».
«Самое трудное – говорит Роден, – и вместе с тем самое высокое, словом, предельная черта искусства – это рисовать, писать и выражаться просто и естественно».
Это высшая форма простоты.
И в то же время, эта простота, как мы уже говорили, характерна тем, что она не заметна.
«Вы смотрите на картину – говорит тот же Роден, – или толь что прочли страницу, вы не заметили ни рисунка, ни колорита, ни стиля, но вы потрясены до глубины души».
Высшим примером исключительно углубленной простоты как в жизни, так и в творчестве, может служить Чехов.
Образ Чехова как личности и как писателя олицетворяет собой совершенно особую, ни с чем не сравнимую, «чеховскую простоту».
Горький в своих воспоминаниях о Чехове говорит о том, что Чехов «любил все простое, настоящее, искренное и у него была своеобразная манера опрощать людей».
«Всякий человек при Антоне Павловича – пишет Горький, – невольно ощущал в себе желание быть проще, правдивее, в то время как сам А. П. «говорил простые, ясные, близкие к жизни слова».
«Уношу с собой хорошую добрую мысль – сказал Горькому скромный сельский учитель после разговора с Чеховым – «крупные-то люди проще, понятливее и ближе душой к нашему брату».
Этой высшей форме упрощенности, простоты, обычно предшествует длительный период напряженной культурной работы.
Но есть еще и другая, можно сказать, досадная сторона простоты – ее малозаметность.
Досадная потому, что проходит нередко бесследно для окружающих, не замечается ими, исчезает, не оставляя после себя никаких воспоминаний.
Многое, очень многое, простое и при этом значительное, важное для жизни, поучительное, иногда даже великое, проходит незаметным и бесследно навсегда гибнет для окружающих.
Нужно примириться с грустной мыслью, что все простое и искреннее в нашей жизни, в большей мере, чем что-либо другое, обречено на забвение.
Приходится признать, что настоящие глубинные источники жизни протекают где-то незаметно, в стороне от большой дороги нашего прямого восприятия, от обычной устремленности нашего внимания.
Обыденность и простота, это, конечно, не одно и то же.
Обыденное может быть ходульно, не искренно, не просто, полно дешевого чванства, лицемерия, или в иных случаях незначительно, мизерабильно.
Простое может быть великим, значительным, во много раз превосходящим все обыденное, повседневное, хотя внешне нередко и незаметным, в других случаях лишь скромным, искренним.
Обыденное часто духовно слепо, глухо, простое нередко просветленнее, знаменуя собой вершину познания, углубленность понимания.
Простое часто наиболее загадочно, таинственно.
Так смерть предельно проста и вместе с тем предельно таинственна.
Говоря о высшей форме простоты, мы имеем в виду простоту как синтезирующую форму понимания, как результат преодоления всей пестроты и всего многообразия конкретности.
«Я всегда был уверен – говорит Гете – что мир не мог бы существовать, если бы не был так прост». И наряду с этим: все мы бродим ощупью среди тайн и чудес» и «высшее, чего может достигнуть человек в познании, есть чувство изумления – erstannen».
Само собой разумеется, что упрощенность выражения еще отнюдь не определяет собой упрощенность самого понимания. Высшие формы понимания, наиболее ясные и четкие, представляющие собой синтез всего накопленного опыта, являются наряду с этим и наиболее простыми. Так, мы отмечаем высшие формы простоты в основных положениях нашего знания – в научных и философских построениях, а также в поведении отдельных лиц, в их отношении к окружающему. «Все мудрое просто» – это положение уже давно стало общепризнанным.
Мух, например, считает, что в любой отрасли нашего знания все то, что представляется основным и поэтому наиболее прочным, может быть изложено в простой и ясной форме всего лишь на нескольких страницах. В этих случаях простота является высшим синтезом, как-бы квинтэссенцией данного отдела знания.
Как известно, в любом отделе нашего знания и опыта только то, что мы хорошо понимаем и хорошо знаем, мы можем объяснить вполне просто.
Есть разные формы простоты.
Простота античная, простота христианская.
Эллино-римский дух не понимал христианской простоты – смиренной, молчаливой, страдальчески-кроткой, христианство не понимало духа античной простоты – ясной, уравновешенной в самой себе.
Простота, как и искренность, в различные исторические эпохи не играла одинаковой роли.
В некоторые периоды истории ее совсем не признавали, игнорировали.
В эти периоды наиболее ценным являлось все наигранное, искусственное, жеманное, лживое.
В иные эпохи особенно популярной являлась манерна, вычурная простота (такова, например, псевдопростота пасторалей ХVIII столетия, весь стиль Трианона).
Наибольшей простотой отличается умирание и смерть, так как здесь отпадает всякая орнаментация жизни, что нередко лишает многие явления их искусственности и делает их в этих случаях особенно одухотворенными, а иногда только жутко простыми.
Можно было бы по аналогии с установленными французскими патопсихологами двумя видами аутизма – autisme riche и autisme pauvre, – говорить о двух формах упрощенности, симплификации, об упрощенности от избытка и упрощенности от недостатка, которые можно было бы назвать simplification riche и simplification pauvre.
К категории высшей упрощенности относятся идеи опрощения, проповедуемые некоторыми мыслителями (Руссо, Толстым, Торо, Карпентером, Рескиным и многими другими), имеющие в виду главным образом отказ от всего того, что, по мнению этих мыслителей, излишне усложняет жизнь, препятствуя нормальному, всестороннему развитию полноценной личности.
В природе все время как-бы соревнуется истина простоты с мотивом сложности, иногда даже напыщенности (например, брачные наряды некоторых птиц, цветов), красочной и иной сложности, однако, перевес все же всегда остается за простым, ясным.
Можно с уверенностью сказать, что даже наивысшая форма человеческой жизни, предельная форма ее совершенства, которую мы не сегодняшний день даже представить себе не можем, будет, наверное, связана с наивысшей простотой.
• «Donner moi de la simplicite» – «Дайте мені простоти» (з французької)
Весь мир живет в средних регистрах.
Такова жизнь природы, такова жизнь человека.
Все, что возвышается над этой срединностью, или уклоняется от нее в ту или другую сторону, – все это либо со-бытия, нечто, возвышающееся над средним уделом, над опытом, либо патология (по существу, тоже событие, но уже такое, при котором нарушаются сами законы нормы).
Эту срединность в жизни природы хорошо передает Тургенев:
«Мне вдруг показалось – говорит Тургенев, – что я понял жизнь природы, понял ее несомненный и явный, хотя для многих еще таинственный смысл.
Тихое и медленное одушевление, неторопливость и сдержанность ощущений и сил, равновесие здоровья в каждом отдельном существе – вот самая ее основа, ее неизменный закон, вот на чем она стоит и держится. Все, что выходит из-под этого уровня, кверху ли, книзу ли, все равно – выбрасывается ею вон, как негодное. Многие насекомые умирают, как только узнают нарушающие равновесие радости любви; больной зверь забивается в чащу и угасает там один: он как-бы чувствует, что уже не имеет права ни видеть всем общего солнца, ни дышать вольным воздухом, он не имеет права жить».
Эта доминирующая срединность особенно чувствуется в жизни человека.
Науки и искусства это нечто, существующее главным образом для средних регистров.
Только в пределах этих средних регистров осуществляются… достижения научной, литературной, художественной и прочей деятельности, только в средних психических регистрах бывает наибольшая обращаемость к ним.
Можно говорить об определенной вместимости психической жизни, о неспособности ее воспринимать впечатления и переживать их выше известного предела.
«Силы души – говорит Оскар Уайльд, – в своей напряженности и длительности так же ограничены, как и силы физической энергии».
«Человеческая душа – пишет Ницше, – и пределы ее, достигнутый до сих пор объем внутреннего опыта человека, высота, глубина и даль этого опыта, вся продолжающаяся до сих пор история души и ее еще неисчерпаемые возможности, вот предназначенная для прирожденного психолога и любителя «великой охоты» охотничья область».
Все, что психическая жизнь не вмещает, обычно вытесняется из сознания – забывается, не замечается, или, если и сохраняется в памяти, то во всяком случае в виде чего-то эмоционально весьма бледного, глубоко не затрагивающего всего остального содержания психической жизни.
Неполноценность человека. Биологическая, психическая, социальная. Об этом можно было бы написать целые томы.
Касаясь общечеловеческой психической неполноценности, я имею в вижу не только гносеологические дефекты – дефекты самого нашего познания (как, например, Кантовскую субъективность временных и пространственных категорий), но и частный, более грубый субъективизм, присущий многим проявлениям нашей психической деятельности.
Наш психический аппарат далеко не во всех своих проявлениях удовлетворяет всем тем требованиям, которые мы к нему предъявляем, как к органу, долженствующему всегда и при всех условиях наиболее полно и наиболее объективно отображать окружающую нас действительность, давать вполне адекватный отпечаток ее. Этот психический аппарат даже в условиях нормальной психической деятельности нередко в этом смысле дает перебои.
С этой точки зрения наша психическая жизнь не равноценна в отдельных своих компонентах. Представляя собой единое неделимое целое, она, тем не менее, составляется из неодинаковых по своей объективной занятости ингредиентов. В ней есть элементы силы, но есть и элементы слабости.
Если мы не имеем основания утверждать совершенство и безупречность анатомической структуры и функциональных проявлений нашего организма, отдельных его органов и, в частности, мозга, если мы можем констатировать в нем ряд переходных в процессе эволюции и недовершенных образований, говорим об органах и функциях, уже утративших свое биологическое значение, или еще не достигших своего полного развития, то все это в полной мере применимо и к нашей психической жизни, психическим функциям.
Социальная жизнь, даже в той наиболее совершенной ее форме, какой мы ее себе представляем, не может аннулировать на сегодняшний день биологических несовершенств организма и его функций, и, в частности, биологического несовершенства психических функций, хотя бы уже в силу возрастного несоответствия биологических и социальных факторов, из которых первые обладают значительно большей давностью. К тому же, социальная жизнь на протяжении всего исторического периода развития не создавала для человечества и не создает условий для такого рода коррекции.
Нечеткость нашего восприятия, легко порождающая иллюзионизм, неточность репродуктивных образов, аффективное искажение восприятий и репродукций, логических построений («аффективная логика»), внушаемость и целый ряд других «узких» мест в деятельности нашего психического аппарата, могут создавать неадекватные психические продукции.
Психическая жизнь, если так можно выразиться, не на всем своем протяжении вплотную соприкасается с окружающей реальностью; местами связь ее с этой реальностью уже от природы рыхлая, что легко дает повод для разного рода «отлетов».
Только та философия жизненна, которая строится на учете этой неполноценности.
Только при учете этой неполноценности можно создавать настоящее понимание, как форму субъективно-объективного познания мира, только на основании этого учета могут рождаться социальные прогнозы.
Из всех, исходящих из самого ядра личности, глубоко интимных переживаний, выражающихся вовне как-бы в форме постепенно расширяющихся кругов, самым периферическим, наиболее удаленным от ядра личности, представляется круг словесных высказываний. Он всего больше независим от внутренних переживаний, свободен от прямого отображения их.
Известное изречение: «слово дано человеку, чтобы скрывать свои мысли» лучше всего характеризует такое соотношение.
Ближе к ядру личности располагается круг мимических движений (выражений лица, а также всех движений человека).
С годами мы приучаемся также лгать в своих мимических движениях, как и на словах, однако даже и в таких случаях за областью мимики остается всегда большая искренность, большая правдивость.
Всего ближе к ядру личности выражения глаз, иногда лишь на мгновение возникающие, но сразу определяющие собой внутренние переживания человека.
Об этом очень тонко говорит в одном месте Толстой.
Описывая свидание двух близких людей – брата и сестры, долго друг с другом не встречавшихся («Воскресенье») он пишет:
«Совершился тот таинственный, невыразимый словами и многозначительный обмен взглядов, в котором все было правда, и начался обмен слов, в котором уже не было той правды». И далее: «Много ль тут надо сказать, но слова ничего не сказали, а взгляды сказали что-то, что надо бы сказать…»
Отсюда трудность смотреть долгое время друг другу в глаза, так как в иных случаях легко можно выдать себя, «молча проговориться».
…В пределах каждой из этих сфер тоже возможны подразделения на проявления более близко или более отдаленно расположенные от основного ядра личности и исходящие из них переживания.
Так, в пределах словесных выражений ближе к ядру личности располагаются отдельные непосредственно возникающие восклицания, междуметия, стоны, жалобы и прочее, посколько в них больше искренности, чем в других словесных высказываниях и их поэтому труднее скрыть, хотя и возможно фальсифицировать.
Периферичнее от них располагаются эмоционально насыщенные высказывания и, наконец, в наиболее отдаленном кругу сосредоточены все относительно нейтральные суждения, так как они легче всего поддаются как торможению, так и подмене и поэтому в меньшей мере, нежели все остальные словесные высказывания, могут соответствовать подлинному характеру наших внутренних переживаний.
Нужно различать, с одной стороны, переживание слов и понятий, а с другой – простое пользование этими словами и понятиями.
Последнее нередко легко переходит в жонглирование словами и понятиями, внешнее, бездушное, только «скуки ради», от внутренней пустоты.
Если нет внутреннего процесса – процесса роста, искания, накопления и обогащения, то человеку нужно чем-нибудь да занять свою душу.
Своего рода «игра» в преферанс или в шахматы.
Такие писатели, как Мережковский или как Розанов, часто играют в преферанс с религией, религиозными и философскими понятиями, теша себя тем, что причудливо сочетают между собой на все лады отдельные, большей частью случайно выхваченные, слова и понятия.
«Быть может нигде – справедливо говорит Философов, – голая словесность так не оскорбительна, как вокруг тем религиозных».
Переживание – это явление длительное, иногда даже непрерывное, тогда как слово «явление» одноразовое, отвалившись от которого человек нередко его может забыть.
Внимательность к другому человеку.
Ее надо отличать от часто употребляемого выражения «чуткость», «отзывчивсть» – «чуткое отношение к другому человеку».
Чуткость чаще всего определяет собой только откликаемость на боль. В ней всегда есть элементы сострадания.
Есть люди очень отзывчивые, чуткие к чужой нужде, страданию, горю, и в то же время по существу невнимательные к другим – замурованные наглухо в своих миросозерцаниях.
Внимательность представляет собой интерес и внимание к мыслям, взглядам, исканиям другого человека, ко всем его переживаниям, независимо от того, страдальческие они или нет.
Внимательными могут быть лишь люди с открытыми миросозерцаниями, свободно допускающие приток в них извне свежего воздуха, видящие вокруг себя не только свое («мои мысли», «мои взгляды»), но и другое, интересующиеся этим другим.
Для многих людей «все другое» по существу не интересно, они непрерывно прокламируют, несут высоко над своей головой только свое, жаждут прозелитизма и нетерпимы к чужому мнению, не воспринимают это чужое мнение, или же искаженно, по-своему его воспринимают.
Это по-настоящему аутисты, аутистические натуры, герметически замурованные в самих себя, хотя нередко внешне и очень синтонные в своем поведении – живые, общительные в отношениях с окружающими, – как принято говорить, «отзывчивые», «чуткие».
Вся философия Толстого не для окружающих («не для мира»), а для самого себя.
При этом Толстой, – особенно в своих дневниках, – не раскрывает самого себя, как это вообще свойственно авторам дневников, а все время как-бы со стороны поучает самого себя, – убеждает и поучает (читает себе мораль).
Создается впечатление непрерывной двойственности, совмещения в одном человеке двух: одного – мятущегося, более склонного к скепсису, агностицизму и вместе с тем жадно хватающегося за жизнь, другого – больше доктринера, рационалиста «во что бы то не стало», пытающегося успокаивать своего мятущегося собрата, наставляющего его.
Эта двойственность ярко выступает у Толстого также в некоторых мелочах – крупицах поведения, – случайных обмолвках, невольных оговорках.
Так, в период своего пребывания в Крыму, когда Толстой был серьезно болен и думая, что он уже больше не оправится, ожидал с минуты на минуту смерти, он воскликнул однажды в состоянии полузабытья: «Только-то? Совсем не страшно!».
Как-будто кто-то показал ему то, чего больше всего боялся в жизни Толстой и чем в значительной мере была продиктована вся его философия, и когда другой, видя, что все это проще, чем ожидалось, и не связано с значительным страданием, дал на это неожиданно радостную реплику: «Только-то? Совсем не страшно!».
О беспредметной боли души.
Розанов удивительно тонко пытается определить это состояние.
«Боль моя – пишет он, – всегда ОТНОСИТСЯ к чему-то ОДИНОКОМУ и чему-то БОЛЬНОМУ и чему-то ДАЛЕКОМУ; точнее: что Я одинок, и оттого, что не со мной какая-то ДАЛЬ, и что эта даль как-то БОЛИТ, или я болю, что она только ДАЛЬ. Тут есть «порыв», «невозможность» и что Я САМ И ВСЕ не то, не то…»
Это не настроение, не состояние тревоги, не обрывки неосознанных впечатлений и воспоминаний, это то переживание, которое больше всего определяет нашу извечную душевную ненасыщенность (и звуков небес заменить не могли скучные песни земли»).
Основное «вечное» в Дон-Кихоте – это изначальная антитеза мира реального и мира мечты, непримиримая на крайних полюсах своего выражения и поэтому приводящая нередко к грубым формам разрушения реальностью мира мечты.
Эта антитеза порождает ситуации и переживания с одной стороны комические, с другой трагические (вернее, при комических ситуациях трагические переживания), чаще же всего явления смешанного характера – комико-трагические и трагико-комические.
Эта антитеза чаще всего разрешается в жизни в плане компромиссных форм «равнения на реальность», не устраивая, однако, при этом основного противоречия между «звуками небес» и «скучными песнями земли».
Подобного рода противоречие разрешается иногда в виде особого исключения мечты (например, в концепции научного социализма), когда желаемое целиком совпадает с тем, что диктуется реальной жизнью – реальными соотношениями экономических сил и реальной тенденцией к дальнейшему развитию этих сил.
Это одно из счастливейших совпадений, удач на миллион случаев, когда судьба начинает как будто бы улыбаться, благоволить к человеку, раздираемому трагическими противоречиями своего существования.
Этим больше всего объясняется успех научного социализма.
Впрочем, подлинность такого совпадения, удачливость его становится за последнее время все более сомнительной.
Особенно трагичными являются некоторые формы итога соотношений между реальностью и мечтою, та бытовая равнодействующая, главным образом в плане социальном, которая созидается путем прямой реализации в жизни многих форм этой мечты. Таково христианство как государственная религия, таковы многие практические формы осуществления социалистической идеи и особенно некоторые виды государственного социализма (например, национальный социализм).
Психиатрия это нечто вроде «ящика Пандоры».
В своем обычном понимании и в своих грубых проявлениях это нечто более или менее очерченное и в этом смысле глубоко провинциальное, замкнутое в узких пределах, интересное для сравнительно небольшого круга специалистов.
Иногда, однако, заключенные в ней «духи» вырываются наружу и распространяются на громадные территории, захватывая целые страны, нации, иногда, на известный отрезок времени, почти все человечество.
Это – социальная психопатология, социальное безумие.
В таких случаях знание и опыт в области психопатологии дают возможность понять многое в явлениях, имеющих историческое значение и охватывающих широкие массы народа.
… психических выпадений, зияний, пустот.
Необходимо различать пассивные и активные формы таких выпадений.
Так, молчание может быть в одних случаях пустым минус-феноменом, явлением простого зияния, в других же случаях это же молчание – речевой перерыв – может быть психически насыщенным, активным, творческим фактором. Таковы, например, многозначительные, художественно утонченные паузы, моменты молчания, речевые прорывы в технике Художественного театра (МХАТа) или же моменты молчания, полные глубоко трагического смысла, специально отмечаемые самим автором художественного произведения (например, знаменитое Пушкинское окончание «Бориса Годунова» – «Народ безмолвствует»).
Таковы также и некоторые литературные пустоты – умышленные пропуски, многоточия.
Таким образом, эти минуса, пустоты, провалы могут нередко, подобно отрицательным величинам в алгебре, иметь свою положительную актуальную значимость.
Говоря так, мы имеем в виду не те речевые провалы, пустоты, в которых речь заменена мимикой и пантомимикой (как, например, в немой последней сцене «Ревизора»), где имеется лишь переход одного вида восприятия в другой, – зрительно-словесного в зрительный. Здесь по существу никакого прорыва нет и психологически насыщенное содержание передается лишь на ином языке – на языке статических и динамических форм.
Мы говорим о полных пустотах, выпадениях, провалах, ничем не замещаемых, не заполняемых никаким иным, адекватным содержанием, суррогатом активных форм. Таково молчание, как проявление бездействия, бездушия…
Некоторые формы молчания не только представляют собой минус-феномены, но знаменуют собой наивысшую форму психической насыщенности, нечто, превосходящее все то, что может быть выражено вовне человеческим словом.
Таково, например, в знаменитой «Легенде о Великом инквизиторе» Достоевского молчание Христа в ответ на обращенную к нему речь Великого Инквизитора.
К многозначительным формам также относятся некоторые «пустые места» в восприятии. Таковы различные формы тишины в окружающей нас природе – пассивные и активные (например, воспринимаемое нами затишье перед ударом грома, тишина ночи и прочее).
Подобно этому и тьма, отсутствие света, может выступать как простой негатив и как психически насыщенная форма восприятия окружающего.
В последнем смысле очень характерны, например, сплошные темные места в голландской живописи, темный фон на картинах Рембрандта.
Прозрачность темноты у Рембрандта.
Ее глубина, насыщенность, превышающая все то, что выявляется при свете, так как освещенное часто представляет собой ограниченную, предельную данность, тогда как затемненное нередко таит в себе бесконечные варианты предчувствуемого, смутно угадываемого.
Скульптурные пустоты тоже не всегда представляются пустотами в собственном смысле этого слова.
Так грубо неотесанная мраморная глыба, из которой выступает одухотворенная женская голова («Мысль» Родена), не представляет собой сырой необработанный матерьял (скульптурную пустоту), а имеет определенную оформленность и определенную скульптурную насыщенность.
Эта многозначительность пустот, выпадений, зияний особенно сказывается в графике в стиле blanc et noir (активность белых недорисованных мест, значительность сплошного черного).
Цепенеющее, обезволивающее влияние тьмы и тишины, будирующее влияние света и звуков.
Интересно отметить, что негативные явления со стороны других видов ощущений, кроме зрительных и слуховых, – отсутствие запаха, вкуса, боли, тактильных, температурных и прочих ощущений, являясь психически пустыми, всегда представляют собой подлинные провалы, подлинные минус-феномены.
В музыке звуковые пустоты (моменты безмолвия, перерывы) имеют совершенно особое значение.
Они придают иной отпечаток всем звуковым сочетаниям, вызывая иногда в момент внезапно наступающего безмолвия чувство напряженности, ощущение надвигающейся бури, трагизма, в других случаях навевая грустное, меланхолическое настроение, как-бы иммитирующее, – особенно в случаях своей ритмической однотипной повторяемости – роковой отсчет времени, подобно отсчету часов.
«Если колокола – говорит Роденбах, – напевают печаль, то это происходит не столько от их грустного звука, сколько от сопровождающего их безмолвия, одной из тех длинных пауз, когда звук умирает, исчезает в Вечности».
Как известно, равномерные и длительные звуковые пустоты, чередующиеся с низкими звуками, или длительные, ритмически повторяющиеся двигательные провалы – моменты обездвижение, – сменяющиеся медленными двигательными актами, создают в унисон с темпами нашей психической жизни грустное, тоскливое настроение (так называемые минорные звуки – например, похоронный звон колоколов в форме редких низких ударов, отдаленных друг от друга на значительные промежутки времени, очень медленные однотипные движения – например, медленно выступающая процессия).
В противоположность этому при очень коротких звуковых или двигательных перерывах (при коротких стадиях тишины или коротких стадиях неподвижности) и высоком характере звуков, или при быстроте движений, возникает веселое, радостное настроение (мажорные звуки: например, звон колокольчиков или бубенчиков, разные виды пляски).
Это различие настроений обусловлено как особенностями самих звуковых раздражений или особенностями самих двигательных актов, так и различием интервалов (пустот) между ними.
Иногда мелкие и редкие звуки только усиливают безмолвие, делают его более значительным.
Оттеняемое мелкими звуками безмолвие чувствуется сильнее.
Так, легкий шепот ночи, слабый шелест густого бора, отдаленные редкие звуки в горах заставляют по-новому звучать тишину.
«Звучание тишины».
Это не образное выражение, а подлинное слуховое ощущение.
Когда умолкают все внешние звуки, тогда начинают ощущаться [звуки], заглушаемые в обычных условиях внешними раздражениями, рождающиеся в нас самих, в наших слуховых органах.
И средь этих звуков больше всего и яснее всего, особенно в моменты волнения, выделяется звучание собственного сердца.
В некоторых случаях слышимые в тишине в состоянии особенного психического напряжения ритмические удары собственного сердца придают характер напряженности и всей окружающей обстановке, благодаря своей ритмичности – однообразию звуков и однообразию звуковых интервалов между ними.
Так, Наташе в «Войне и Мире» Толстого, осторожно продвигавшейся среди ночной тишины к постели тяжело раненного князя Андрея, «казалось, что что-то тяжелое, равномерно ударяя, стучит во все стены избы: это билось ее, замиравшее от страха, от ужаса и любви, разрывающееся сердце».
Точно также и князь Андрей, по-видимому, слышал в бреду при общей тишине удары собственного сердца в виде равномерно повторяющихся одних и тех же звуков («И пити, пити, пити» и «и ти, и ти, и ти»), что усиливало напряженность всех его восприятий.
Тишина углубляет все наши переживания.
Среди разных видов совестливости есть особая совестливость – по отношению к слову.
Есть люди, в психической жизни которых превалирует молчание. И не потому, что они не могли определить словами свои переживания, не та, словесно заторможенная категория людей, которая вообще бедна словами – это дефективные люди, – а та, которая стыдится не простых, не обыкновенных слов, инстинктивно опасается словесной лжи.
Для них все возвышенное, все нежное, а также все трагическое не передаваемо словами, внесловесно.
Все эти моменты, глубоко переживаемые такого рода людьми, обычно сопровождаются в их поведении молчанием.
Все наиболее сложное в нашей душевной жизни не передаваемо словами.
Невозможность многих переживаний говорит об их глубине и насыщенности. Все наиболее глубокие, наиболее искренние, а также наиболее интимные переживания чаще всего протекают в условиях полного молчания.
Их словесная, а иногда даже мимическая реализация, бывает в таких случаях ненужной, излишней, а главное – совершенно неадекватной самим переживаниям и поэтому часто неискренней, лживой.
Эта невысказываемость еще в большей мере касается крайних форм отступления от нормы – вершин познания, переживаний, вершин страдания.
«Остальное – молчание», – говорит Гамлет.
Многие люди страдают и умирают молча не потому, что больше не могли, не в силах были бы что-либо сказать, а потому, что слова на высоте переживаний перестают быть адекватными этим переживаниям, они остаются где-то далеко позади за тем, что бессловесно, несказуемо.
Тютчевское: «Молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои» представляет собой форму молчания, обусловленную исключительно насыщенным содержанием.
Отсюда многозначительность молчания.
Молчание как утверждение.
Молчание как отказ.
Молчит не только доброе, молчит часто и злое, глухо наростающее – молчин задуманное злодеяние, обман.
В этих случаях молчание боится неискренности внешняго выражения задуманного, тогда как в условиях искренности оно боится во внешних выражениях лжи («мысль изреченная есть ложь»).
Мудрость безмолвного созерцания природы, непередаваемость этого созерцания.
Выразительность пантомимики – немых сцен, статических или динамических – углубляется сопровождающей их тишиной.
Сладость тишины, обаяние тишины.
«В тишине, а не в буре Господь».
В глубокой тишине есть своя тайна, ожидание чего-то.
Тишина и таинственность – родственные, близкие друг-другу понятия. На многих египетских статуях передан особый жест в виде приложенного к губам указательного пальца, как-бы призывающий к тишине, за которой скрыта тайна.
Можно говорить о мистике тишины, мистике темноты, об особой мистике лунной ночи.
В тишине лунной ночи всегда скрыта какая-то тайна.
Тишина лунной ночи воспринимается нами не только статически – спокойно, умиротворяюще, – но нередко и динамически, как нечто нарастающее, постепенно заполняющее собой, подобно звуку, все окружение, так что чувствуется, что еще немного и откроется какое-то новое, высшее понимание.
Ночная тишина природы нередко пробуждает космическое мироощущение. Поэт, выходя лунной ночью на дорогу, испытывает чувство космического всеохвата и ясно осознает, как вся земля, весь земной шар «в небесах таинственно и чудно спит в сияньи голубом».
C другой стороны – угнетающее влияние тишины.
Тишина как символ смерти.
Тишина служит иногда предметом ее аллегорического изображения в живописи. Такова, например, «Лесная тишина» Беклина и особенно его «Остров мертвых», где основным ведущим мотивом является переживание тишины, своеобразная музыкальность ее.
Отсюда апология тишины в живописи.
В значительно меньшей мере все это можно сказать об отсутствии света – тьме. В тьме, как и в тишине, есть таинственность, величие, но нет созерцательности, нет божества.
Тьма, в противоположность тишине, не способствует конденсации чувств.
Мрак это гнет.
Родство ночи со смертью.
За мраком часто чувствуется нечто бесформенное, таинственное, влекущее и в то же время отталкивающее своей загадочностью.
Отсутствие света – мрак, – никогда в представлении человечества не являлся индифферентным феноменом, а всегда символизировал собой все самое отрицательное в жизни. Таково, например, представление человечества о мраке преисподней, об аде, где сосредоточены все самые отрицательные моральные качества.
Такого символического значения, или хотя бы приблизительно равного ему, никогда не имело другое негативное явление – отсутствие звука, тишина.
Все страшное в жизни больше всего связано с тьмою, с ночным временем.
Говоря все это, мы, конечно, имеем в вижу лишь спорадически возникающие явления тишины и явления тьмы, тогда как постоянное состояние тишины и тьмы такими качествами не обладают (это, следовательно, не касается глухих и слепых).
Минуты тишины, периоды темноты – следовательно, моменты отсутствия звуков, света – играют чрезвычайно большую, нередко актуальную, ведущую роль при разных событиях человеческой жизни.
Таково значение моментов тишины и темноты на высоте любви между мужчиной и женщиной, таково трагическое значение тишины и темноты при умирании и при смерти.
Общая бесчувственность – пустоты, провалы чувств, – определяемая как состояние Нирваны, мыслится индусами, как некая наивысшая форма освобождения – духовной свободы и простора.
Все такого рода пустоты не остаются по существу пустотами, а заполняются некоторыми мыслями, смутно угадываемыми, не оформленными содержанием, нередко, однако, более значительным, нежели многие конкретные, четко очерченные положительные предметы и явления.
Подобно тому, как белые места на географической карте больше всего волнуют путешественников, стимулируя их на смелые исследования, порождая новые мысли, догадки, предположения, так и белые места на карте наших восприятий – провалы, пустоты, негативы, – представляются нередко более актуальными, чем многие позитивы наших восприятий.
Тишина нередко приобретает власть над человеком, заставляя его приспосабливаться к ней.
Так, в условиях тишины люди, боясь ее нарушить, невольно начинают говорить шепотом.
Все интимное любит тишину.
Когда люди говорят тихо, всегда кажется, что они сообщают нечто секретное.
Иногда безмолвие лишь сильнее оттеняет предшествующий ему период, обильно насыщенный звуками.
Таково «безмолвие, которое следует за всеми мимолетными празднествами, мучительное безмолвие, которое ощущается в общественных садах, когда окончится музыка, толпа разойдется и водворится мрак» (Роденбах).
В некоторых случаях не перерывы – пустоты, провалы, моменты молчания, красочной незавершенности, темные пятна в живописи – являются дополнением к звукам, краскам, активным элементом окружающего, а наблюдается как раз обратное: все эти звуки, краски представляются лишь надбавкой к основному, ведущему – к тишине, мраку, эмоциональным прорывам, – ко всем проявлениям лишь внешне кажущегося небытия.
Все это говорит об активном, творческом характере многих отрицательных феноменов – знаний, провалов, пустот, – о необходимости развития, изощрения, усовершенствования у музыкантов не только звуковых ощущений, но и ощущений тишины, у художников – ахроматических восприятий и ощущений темноты, мрака, у представителей хореографического искусства – ощущений адинамизма, статики.
Недвижность – смерть.
Она иногда более выразительна, чем жизнь.
Динамика окружающей нас действительности, с одной стороны, а также присущая всем нам активизация всего нами воспринимаемого – с другой, – обуславливает то, что к области минус-феноменов в собственном смысле этого слова должно быть отнесено сравнительно небольшое число явлений. Большинство отрицательных понятий конкретного порядка (большинство вычитаний) необходимо считать лишь условно отрицательными, так как мы их обычно восполняем положительным содержанием, но только иного рода.
Так темное в живописи нигде, однако, не бывает абсолютно темным, по крайней мере мы его таковым не воспринимаем; оно некогда не представляет собой простого отсутствия света, а всегда имеет положительное содержание в форме определенной глубинной насыщенности.
Понятие глубины в области зрительных впечатлений всегда связано с неясными, нечеткими очертаниями. Такова красочная неопределенность пространственной дали на картинах великих мастеров, такова цветовая бесформенность всего углубленного, бездонного. Пассивное и активное значение эстетических и моральных пустот, интеллектуально и эмоционально индифферентных феноменов (безвкусие, бесчувственность, апатия, аффективная тупость).
Среди минус-феноменов необходимо различать феномены определенного минус-творчества. Таковы, например, многие формы болезненных психических проявлений у душевно-больных, при которых моменты вычитания являются как бы стимулом к своеобразному дефектному творчеству.
Интересно психологическое значение пространственной дали. Шпенглер в одном месте делает тонкое замечание: «Для прирожденного художника, – говорит он, – как это доказывает лирика всех народов, впечатления от далеких ландшафтов, облаков, горизонтов, заходящего солнца, неизменно связываются с чувством чего-то будущего».
Наши временные представления (прошедшее, настоящее, будущее), мы привыкли переносить в область пространственных отношений. Так, то место, где я стою, больше всего связывается для меня с настоящим, то, что впереди – с будущим, и то, что позади – с прошедшим.
Это в значительной мере обусловлено присущем всем нам поступательным движением вперед в силу чего все, находящееся сзади, невольно относите к прошедшему (как и звучит буквальное понимание этого слова – к уже пройденному), то, где я сейчас нахожусь, уже в силу моего пребывания СЕЙЧАС на нем – к настоящему, и то, куда я иду, то есть все, впереди лежащее – к будущему. И чем отдаленнее это впереди лежащее, чем более широкие горизонты оно передо мной открывает, тем более отдаленными временными предстоящими предо мной периодами оно становится.
«А даль-то, даль как широка!» (Майков). «А все-таки, все-таки впереди огни» (Короленко).
Это не только символика (пространственная даль как символ дали временной), по примеру символического прообраза горных вершин – вершинам моральным (например, восходящий на гору Ибсеновский Брандт), но и полное отождествление пространственно-отдаленного с будущим в нашем мироощущении.
Еще мы говорили о психологической роли пространственной дали, о значении ее в наших представлениях о прошедшем, настоящем, будущем.
В не меньшей мере эта пространственность царит в наших представлениях о добре и о зле.
Так, все морально лучшее принято считать высоким, то есть расположенным где-то выше нас, тогда как все худшее – низким, расположенным внизу (низость, низкие поступки).
И это, как показывает психологический анализ, не одна лишь образность выражения, а нечто, далеко выходящее за пределы одной только образности, тесно и неразрывно связанное с самим характером этих, казалось бы, совершенно абстрактных понятий.
Точно так же в религиозных представлениях все лучшее связано с небом, с широким, необъятным простором (отсюда стремление ввысь, устремленность во время молитвы к небу), тогда как все худшее – с подземной областью, с узким пространством где-то внизу под землей (представление об аде).
В тесном соотношении с пространственностью стоит и определенная окраска соответствующих представлений.
Так, все лучшее является в то же время светлым, сияющим, солнечным, все худшее – темным, наполненным жутким мраком ночи.
Интересно отметить явление неравномерной значимости в повседневном быту терминов, имеющих положительное и отрицательное религиозное значение.
Наблюдение показывает, что отрицательные термины отличаются в этом отношении большей прочностью и стойкостью, нежели термины положительные.
Это объясняется тем, что отрицательные термины, первоначально религиозного порядка («черт», «дьявол» и прочие) в противоположность положительным религиозным терминам («Бог», «Ангел»), уже давно утратили в быту свой религиозный смысл и значение (во всяком случае, в значительно большей мере, нежели термины положительные), и стали как-бы разменной монетой обыденного языка, и притом исключительно в бранных его сочетаниях («черт возьми», «черт побери»).
Любопытно отметить, что, хотя с ростом свободомыслия все реже приходится слышать выражения: «ах, Господи!», «ах, Боже мой!», другие, противоположные ему выражения: «черт возьми!», «черт побери!», имеют еще широкое распространение даже в кругу лиц, чуждых религиозности, несмотря на то, что по существу это есть лишь негатив того же самого понятия, все тот же осколок религиозно-мистического мировоззрения.
У человека, относительно часто употребляющего восклицания: «ах, Боже мой!», «ах, Господи!», мы вправе предполагать религиозную нравственность, но человека, который часто, как принято говорить, «чертопыхается» (поминает черта), нет оснований подозревать в религиозном уклоне, хотя по существу дело идет о высказываниях одного и того же порядка.
Это объясняется тем, что религиозно-мистический подход (обожествление) в гораздо большей мере осуществляется по отношению к тому, что человек вносит в понятие добро, благо, нежели по отношению ко злу, несмотря на то, что зло в вульгарной религиозной мифологии не менее четко и не менее конкретно персонифицируется (черт, дьявол, бес).
Вот почему все отрицательные моральные понятия (все злое, недоброе) гораздо легче и скорее эмансипируется от религиозно-мистической окраски, нежели понятия положительные (добро, благо).
Интересно, что и в более утонченном религиозном представлении существует все же тенденция в большей мере персонифицировать благо, нежели зло. Так, наиболее утонченные религиозные мыслители значительно более четко представляют себе Божество как носителя высших моральных ценностей, нежели дьявола – носителя всего отрицательного, злого.
Как узок диапазон возможного, осуществимого, даже мыслимого на сегодняшний день!
Какая здесь царит удручающая повторяемость предметов, мыслей, образов, соотношений, комбинаций, форм!
Временами кажется, что любой ограниченный участок песчаного морского побережья – «отсюда и досюда», – содержит в общем большее число песчинок, нежели мир существующих жизненных феноменов – конкретных и абстрактных.
Временами остро чувствуется ограниченность, однородность и отсюда бесконечная повторяемость форм в пределах истории мы только и воспринимаем себя и окружающий нас мир.
«Мысль человеческая – говорит Мопассан, – неподвижна, она, достигнув определенной непереходимой границы, поворачивает назад, как цирковая лошадь, мечется и бьется стены, как муха в закупоренной бутылке».
Необходимо стремиться выйти за пределы чистого психологизма.
Психологизм – это лишь форма проявления чего-то, лежащего за его пределами, только метод, дефекты и слабость которого мы можем критически оценить, но это еще далеко не все.
Это лишь то окно, чрез которое мы видим мир, тот язык, на котором мы передаем свои мысли, это то, что не должно в нашем представлении о мире окончательно заслонять собой лежащее за этим психологизмом изначально духовное ядро.
Существуют разные градации ясности сознания. Решающими для жизни должны являться моменты наибольшей ясности, кульминационная точка этой ясности, при этом не сухие безаффектные моменты, и не аффективно искаженные (аффективная логика, пристрастные суждения), а аффективно просветленные.
Ими, этими моментами ясности сознания, должно определяться все направление нашего мировоззрения.
Отношение между философским и афилософским (бездумным к общим вопросам) мышлением, а также отчасти вытекающее отсюда отношение между идеализмом как формой философских исканий и матерьялизмом, как формой успокоения лишь на конкретном, на данности, заключается не столько в каких-то объективных моментах (сферы познания), сколько в психических особенностях самих лиц, в их подходе к определенным проблемам.
В этом смысле можно установить две основные, изначальные формы психической структуры, распространенные среди окружающих нас людей.
При одной мы имеем явления вечного вопрошания, всегда переходящего за пределы доступного, наглядного, конкретного, потребность дать ответ на все основные запросы человеческого духа. При другой (безвопросной) все в жизни ограничивается лишь ясно воспринимаемым и поэтому все «провалы» познания либо совершенно игнорируются, либо представляются чем-то простым, ясным и понятным.
В классической литературе характер этих двух полярностей психической структуры особенно ярко отмечен Шекспиром в лице двух его персонажей – Гамлета и Горацио.
Эту полярность отмечает отчасти и Гете в противопоставлени Фауста и Вагнера, с той лишь разницей, что Шекспир как-бы признает одинаковые права за обоими психическими укладами, считая их равноценными (в лице Горацио он дает образ исключительно благородного, честного, более принципиально выдержанного человека, нежели сам Гамлет), в то время как все симпатии Гете на стороне Фауста и поэтому он наделяет Вагнера чертами ограниченности, изображая его почти как комический персонаж.
В известной сцене на кладбище в диалоге между Гамлетом и Горацио эти характерные черты особенно выступают.
«Понимает ли этот дурак, что он делает – говорит Гамлет, глядя на могильщика, копающего могилу. – Копает могилу и поет.
– Привычка сделала его равнодушным к своему занятию» – отвечает Горацио, которому не кажется странным такое сопоставление, и поэтому даже не возникает подобного вопроса, так как это вполне ясно и понятно.
– Быть может, это была голова политика, – говорит Гамлет, глядя на череп, – а этот дурак-могильщик перехитрил его теперь, не так ли?
Дело возможное – отвечает Горацио.
Скажи мне, Горацио – продолжает Гамлет, – неужели череп Александра Македонского стал таким же?
– Точно таким же, принц.
– И так же пахнет тленом?
– Точно так же, – невозмутимо отвечает Горацио.
– До какого низкого употребления мы нисходим, Горацио! – восклицает Гамлет, – почему не проследить воображению благородный прах Александра до пивной бочки, где им замажут ее втулку?
– Рассматривать вещи так, значило бы рассматривать их слишком подробно» – восклицает в свою очередь Горацио, чувствуя, что Гамлет заходит так далеко в своих парадоксальных сопоставлениях, как ему самому никогда и в голову не приходило.
Все вопросы Гамлета остаются без ответа, наталкиваясь на трезвую бездумность Горацио.
Точно также и Фауст в известном обращении к Вагнеру говорит о печальном преимуществе своего душевного уклада перед психическими особенностями Вагнера:
Du bist dir nur des einen Triebs bewusst,
O lerne nie den andern kennen!
Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,
Die eine will sich von der andern trennen*!
Этой двуликостью, двуполярностью, с одной стороны, и трезвой ограниченностью вопрошания с другой, определяются две основные формы мировоззрений (мироощущений), со всеми вытекающими отсюда вариантами человеческого знания и опыта.
То, что я здесь говорю, касается, главным образом, выражаясь словами Ницше, «человеческого, слишком человеческого».
Однако, это «человеческое, слишком человеческое» лишь почва, пьедестал, отправной пункт, от которого мы должны отходить для построения горнего, иначе это горнее будет беспочвенно, оторванно от жизни, построено на фикции, мираже.
- Тобі одна знайома путь,
А я — стою на роздоріжжі…
У мене в грудях дві душі живуть,
Між себе вкрай не схожі — і ворожі.
Гете. «Фауст», Частина І. Вірші 1110-1114. Переклад Миколи Лукаша.
Каждое положительное мировоззрение – идеалистическое или материалистическое, религиозное или арелигиозное, – только тогда становится идейно ценным, когда оно прошло через горнило испытаний, то есть когда оно выстрадано субъектом.
А для этого оно в подавляющем большинстве случаев должно пройти через стадию агностицизма.
Агностицизм сам по себе тоже является отдельным мировоззрением, хотя в нем чаще всего можно обнаружить в рудиментарной форме отдельные элементы либо идеалистического, либо материалистического мировоззрения, так как одно лишь голое «не знаю» не может удовлетворить всех запросов человеческого духа.
Временами, кажется, как мало новизны во Вселенной! Какая удручающая повторяемость форм, явлений и их сочетаний!
Отсюда становится вполне понятным, что еще со времен Вико (а по существу, еще со времен индусской философии) идея повторяемости истории, а также повторяемости всего мирового процесса, неоднократно всплывает в философии вплоть до последнего времени – до времени Ницше (его учения о «Вечном Возврате) и Освальда Шпенглера (с его повторяемстью циклов истории, повторяемостью идей, учреждения, общественных структур).
Эта мысль представляется вполне естественной и законной, так как общее число объектов – предметов, действий, качеств и понятий, которыми оперирует творческий процесс Вселенной, по существу, очень ограничено.
Всегда легче утверждать то, чего не надо, нежели то, что надо. Сфера негативная во всем нашем знании и опыте представляется значительно более четкой, реалистичной и жизненной, нежели сфера позитивная. Целый ряд моральных, философских, политических и социальных концепций несравненно сильнее своей критической частью (отрицающей что-либо из существующего, требующей не совершать то или иное действие), нежели своей положительной частью, устанавливающей те или иные моральные, философские и прочие нормы.
Недаром один из самых древних моральных кодексов – Моисеевы заповеди, – весь, за исключением лишь одной, составлен в негативной форме (не делай того или другого), и только одна заповедь говорит о том, что надо делать.
Недаром также некоторые современные философские концепции, – для примера, взять хотя бы учение Льва Толстого, – бесконечно сильнее и убедительнее в своей отрицающей части, в беспощадной критике существующего склада жизни (в том, как не надо жить), нежели в своем утверждающем, творческом разделе (в том, что нужно делать, чтобы жизнь стала лучше).
Точно так же в литературе изображение всего отрицательного, порочного, ярче, красочнее, нежели изображение всего положительного. Так, Дантевский «Ад» неизмеримо красочнее, глубже, многограннее по сравнению с «Раем», Лермонтовский «Демон» глубже, содержательнее изображаемого в той же поэме ангела и прочее.
Выше мы говорили о том, что философия Толстого неизмеримо более сильна в своей критической, отрицающей части, чем в своей положительной, созидающей.
Толстой и сам сознавал первенствующее положение этого «не надо».
Об этих преймуществах негативных (критических, отрицаниях) элементах философских воззрений перед позитивными он сам говорит в своем дневнике:
«Разум дан не на то, чтобы познать, что надо любить: этого он не покажет, а только на то, чтобы указать, чего не надо любить. Как во всяком мастерстве главное искусство не в том, чтобы заставить правильно работать заново известные предметы, а в том, чтобы поправлять всегда неизбежные ошибки неправильной, испорченной работы, так и в деле жизни главная мудрость не в том, что делать сначала и как правильно вести жизнь, а в том, чтобы поправлять ошибки, освобождаться от заблуждений и соблазнов».
В моральных и религиозно-моральных воззрениях, как и в фотографии, основным ведущим является негатив. Что же касается позитива, то он, в противоположность фотографическому позитиву, в точности передающему обратное негативу отображение, чаще всего является в морально философских концепциях значительно более недовершенным, нечетким, расплывчатым и поэтому недостаточно убедительным.
Мистический образ мира просвечивает не только сквозь напряженно-трагические или экстатически просветленные мгновения жизни – мигов особого озарения, – но и сквозит нередко на прямо противоположном полюсе переживаний, сквозь чрезмерное, до грубости привычное, обыденное. В этом отношении даже стопроцентная пошлость и подлинно мистическое восприятие мира, эти наиболее полярные друг другу явления, могут иногда в каком-то плане даже сливаться воедино. Достоевский остро почувствовал возможность иногда такого слияния. «Все это – говорит он – было до того пошло и прозаично, что почти граничило с фантастическим».
Можно в том же плане говорить иногда и о цинизме, доходящем до мистичности, до сверхреальности.
Такова, например, нестерпимо жуткая, инфернальная мистичность крайних форм цинизма.
Это временами особенно чувствуется в наши дни, в переживаемую нами эпоху. Никогда еще жизнь во всех своих положительных и особенно в своих отрицательных проявлениях (в своих гримасах) не граничила в такой мере с фантастическим, как в наше время.
Создается впечатление, что почти за каждым явлением жизни – не только большим, значительным, но нередко и малым, положительным или отрицательным – все равно, – как-бы стоит двойник этого явления, бесплотный, невидимый, таящий в себе какие-то еще неразгаданные, беспредельные возможности, присутствие которого мы скорее смутно чувствуем, угадываем, нежели осознаем.
Эволюция идей связана не столько с появлением новых фактов, новых мыслей, сколько с новым перераспределением «значимостей» среди матерьяла старого, всем известного.
При таких условиях часто получается, что «сегодня» важное отодвигается куда-то бесконечно далеко на периферию сознания, а едва до сих пор замечаемое выступает на первый план.
В этом новом понимании, новом распределении «значимостей» нужное сегодня становится ненужным и бесполезным завтра, а ненужное сегодня, мимо чего мы сейчас беспечно проходим, не замечая его, становится самым основным, существенным, идейно ценным, стержневым началом всех наших переживаний.
Единство противоположностей – только это и реально.
Единство противоположностей выше логики, выше веры и неверия, ибо оно, в отличие от них, не односторонно, не статично, а многогранно, динамично и при этом целостно.
В каждом явлении есть это сочетание противоположностей, или хотя бы не сразу заметные рудименты второго противоположного ряда.
Однако, логика и эмоциональность (чувство) требуют одного пути – либо так, либо не так.
Для суждения и хотения (стимуляции к действию) не должно быть раздвоение сути.
Единство противоположностей это глубинный задний план жизни, движущие ее пружины, тогда как во внешних ее проявлениях сказывается обычно что-либо одно.
Фрагменты, отдельные, ни с чем не связанные отрывки, случайности и неожиданности, логически неустранимые противоречия, встречаются на каждом шагу в жизни, объединяемые, однако, каким-то скорее вчувствуемым, нежели осознаваемым всеохватом, не узко рационалистического, а иного, значительно большего масштаба.
При попытке рационализации всего окружающего (следовательно, при чисто рационалистически построенном мировоззрении) неизбежно создаются насилия над фактами, урезки, искажения в угоду целому, отбрасывание всего не рационализируемого и потому неприемлемого.
Чисто рационалистически построенное мировоззрение – это обычно книжное, надуманное, далекое от жизни мировоззрение, не удовлетворяющее основных запросов человеческого духа.
«Уж слишком отрывочна жизнь и Вселенная» (Zu fragmentarish ist Welt und Leben), – с горечью восклицает Гейне, но тут же язвительно продолжает:
«К профессору-немцу пойду непременно я.
Верно, ее не оставит он так:
Системы придумает, даст им названья,
Шлафрок надевши и спальный колпак,
Он штопает дырки всего мироздания».