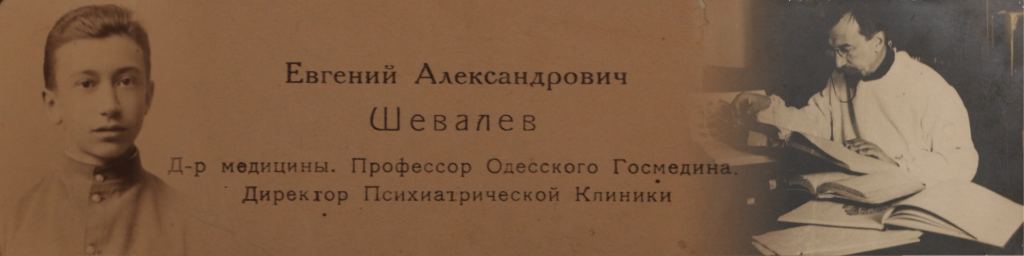Робота була підготована, ймовірно, навесні або влітку 1945 року. Ця остання велика робота Євгена Шевальова примітна тим, що може бути рівною мірою віднесена і до психіатричних, і до філософських праць вченого.
На рівні професійної дискусії Шевальов розвиває тезу про необхідність суміщення або хоча б зближення суто фізіологічних та психологічних, загальногуманітарних підходів в роботі психіатра. Ще у своїй статті «К вопросу о психопатологической интерпретации данных неврологического исследования» (1940 рік) Євген Шевальов аргументував це прикладами, коли психіатри та неврологи, лишаючись у вузьких межах своїх компетенцій, не могли поставити правильний або ж повний діагноз. Тепер же вчений, з кожною сторінкою відступаючи від суто наукового викладу, прямо вказує колегам-психіатрам на складність та багатовимірність світу людських переживань, в якому тісно переплітаються моральні, психічні та фізіологічні феномени, а від лікаря вимагається бути для пацієнта наставником і провідником. Таким чином, «Роль морального фактора» можна розглядати як «науковий заповіт» вченого.
З філософських робіт Шевальова наведена стаття має найбільш тісні зв’язки (спільні цитати, повтори) із «Философией страдальческого опыта», теж написаною в роки війни.
«Роль морального фактора» містить посилання на праці 22 вчених та 12 письменників, філософів, політиків, а також Біблію і житія святих. При цьому стаття призначалася до публікації і, судячи з офіційних бібліографій Євгена Шевальова, вона дійсно була опублікована в тому чи іншому варіанті. Свобода думки, вказівки на психоаналіз та посилання на релігійні тексти, песимізм щодо розвитку психіатрії як суто медичної галузі можна вважати виявом не лише сміливості Шевальова, а й великих сподівань на пом’якшення режиму, які поділяла радянська інтелігенція після Перемоги і аж до початку нової хвилі масових репресій.
Як і інші роботи воєнного періоду, «Роль морального фактора» набрана фрагментами від 1-2 речень до кількох абзаців. У зв’язку із цим виклад подекуди втрачає стилістичну та логічну цілісність. З 47 сторінок машинопису повністю втрачені сторінки 11 та 32, ще кілька сторінок пошкоджені.
З огляду на величину та структуру тексту, ми виділили у ньому наступні тематичні блоки:
II. Про тенденцію до примітивізації та біологізації людського страждання у психіатрії;
III. Питання методології;
IV. Психіатрія та юриспруденція; явище морального слабоумства;
V. Про моральну надчутливість та параною совісних людей;
VI. Про здатність до емоційного відгуку;
VII. Про моральні муки як недооцінений психічний феномен;
VIII. Про переломні моменти в житті та їх значення для різних типів характеру;
IX. Про моралізуючий вплив хвороби та одужання;
X. Про вплив внутрішніх станів на зовнішність та фізіологію;
XI. Співчуття та совість як явища психології;
XII. Феномен самообмови: історія хвороби фронтовика С;
XIII. Про феномен анулювання болю;
XIV. Про вікову еволюцію співчуття;
XV. Про аморальність, набуту внаслідок інфекції;
XVI. Про травми військового часу і межі психіатрії;
XVII. Про імітацію почуттів як клінічне явище;
XVIII. Межі відповідальності психіатра: трагічний приклад з практики Шевальова;
XIX. Висновки.
Текст відтворено у відповідності з сучасним російським правописом.
О РОЛИ МОРАЛЬНОГО ФАКТОРА В ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Врачебная профессия, в виду ее исключительного, наиболее тесного, во многих случаях можно даже сказать интимного контакта с больным человеком (т.е. с человеком, находящимся в особом состоянии, когда он сам ищет, просит, или когда он независимо от своих просьб нуждается в помощи – физической или психической) в значительно большей мере, чем какая-либо другая профессия, связана с категориями морального порядка – моральным подходом, отношением, моральным поступками и моральными действиями.
О том, что медицинская профессия предъявляет к врачу совершенно особые моральные требования, больше всего и лучше всего говорят постоянные дискуссии на тему о врачебной этике, разговоры об особом моральном характере врачебной деятельности.
Имевший место в последние дни весьма оживленный обмен мнениями на страницах «Медицинского Работника» о врачебном подходе к больному может служить хорошей иллюстрацией этого положения.
Значительно меньше говорится о морали педагога, юриста и совсем ничего не говорится о морали инженера, бухгалтера, агронома, химика, художника, артиста и прочих, об особых моральных требованиях, предъявляемых к этим профессиям.
Cреди всех медицинских профессий психиатрия представляет собой тот раздел клинической медицины, в число объектов которого входят явления, определяемые моральными терминами.
Таковы, например, понятия об in sanitas moralis Причарда, позднее замененное понятием об «антисоциалах» и «врагах общества» (Geselschaftsfeinde Крепелина), понятие о Gewissenparanoia – паранойя совестливых людей, об анэтическом синдроме Альбрехта при эпидемическом энцефалите, об анэтическом синдроме Симпсон при детской шизофрении, о входимых в состав некоторых душевных заболеваний идеях греховности, самоуничижения, о Krankheitsgewissen – «совести по отношению к болезни» и прочее в том же роде.
Устранить все эти понятия, определяемые терминами морального порядка, вычеркнуть их из современной психиатрии или заменить их чем-либо новым, не представляется возможным.
Многие психоаналитические понятия, уже давно вышедшие за границы психоанализа и ставшие общеупотребительными психиатрическими терминами, как, например, вытеснение, перенос, сублимация, комплексы, отреагирование их и прочее, нередко бывают настолько насыщены моральным содержанием, что обойти этот их моральный характер, игнорировать его, как переживания морального порядка, не представляется возможным.
Примером вытеснения, особенно в случаях морального порядка, может служить известное, весьма яркое определение этого явления у Ницше: «Ты это сделал – сказала моя память. Ты этого не мог сделать – сказала моя гордость. И память сдалась».
Как известно, один из видов понятия «отреагирования комплексов» есть лишь перевод на психоаналитический, а в последнее время и на общепсихиатрический язык того, что во многих случаях уже давно определяется под именем исповеди и что представляет собой одно из наиболее ярких и насыщенных переживаний морального порядка.
Осуществление такого рода отреагирования приводит в ряде случаев к выздоровлению от более или менее тяжелых невротических или психотических состояний, тогда как задержка в выявлении этих комплексов, в отреагировании их, порождает или усугубляет болезненные невротические и психотические состояния, в некоторых случаях даже может привести к тяжелым неразрешимым душевным конфликтам, кончающимся самоубийством.
Как известно, мотив этой моральной комплексности и этой формы морального отреагирования уже давно широко используется в философской и художественной литературе.
Такова, например, литература классических исповедей – исповедь блаженного Августина, исповедь Руссо, исповедь Толстого и других, а в художественных произведениях – моральные муки Раскольникова, переживания Неклюдова в «Воскресении», провозглашение морального значения всенародного покаяния во «Власти тьмы» и прочее в том же роде.
Касаясь вопроса о связи медицины вообще и особенно психиатрии с проблемами морального порядка, нужно, однако, не забывать и обратную сторону дела, это то, что медицина имеет своим объектом только низшие формы жизнедеятельности человека, его патологию, то есть его «минус-проявления», тогда как все высшие «плюс-произведения», высшие формы научной, философской, художественной, эстетической, этической и религиозной деятельности остаются за пределами медицины, вне ее ведения, ее компетенции.
Этим определяются границы применения врачебной точки зрения, пределы деятельности врача.
Отсюда, естественно, нельзя строить общего мировоззрения, как это, к сожалению, делают некоторые врачи, исходя только из данных, входящих в состав врачебного кругозора, неизбежно односторонних и элементарных.
Такова, например, бескрылость и крайне односторонняя узость психоаналитического пансексуализма – рассмотрение всех форм поведения человека через призму одной только его патологической или нормальной сексуальности, хотя бы даже в ее сублимированном виде, такова также такая, претендующая на общее мировоззрение концепция, как рефлексология, сводящая все высшие психические проявления человеческой деятельности к элементарным рефлексам и целый ряд других аналогичных концепций, пытающихся объяснить, интерпретировать высшие проявления человеческого духа при посредстве низших, добытых в сфере нормальных физиологических или патологических медицинских «минус-феноменов».
Таковы также некоторые, отталкивающие своим примитивизмом и односторонностью, попытки психиатрического анализа, истолкования творчества выдающихся художников, писателей, мыслителей, или анализ структуры из личности под углом элементарных понятий, выработанных в психиатрической практике в процессе наблюдения за дефектным состоянием психики.
Отсюда и в подходе к такому сложному и многообразному явлению, как страдание, медицина не охватывает всех форм человеческого страдания и ограничивается лишь частью их.
Это те формы страдания, которые можно было бы определить как «медицинское страдание», охватывающее собой все физические, больше всего объединяемые понятием боли, страдания, и лишь небольшую часть психических, преимущественно наиболее элементарных.
Все высшие, сложные формы страдальческих переживаний остаются тоже за пределами медицины, вне ее ведения.
Нужно заметить, что и с моральной проблемой тоже лишь по касательной приходит в соприкосновение медицина; значительная часть медицины, например, вся ее теоретическая часть, остается при этом вне поля морали, представляясь в моральном отношении нейтральной.
Однако, учитывая все это, мы с тем большим вниманием должны отнестись к тем разделам медицины, в которых она вплотную подходит к моральному фактору и без учета которого все эти ее разделы остаются профессионально суженными, идеологически и практически неполноценными.
Среди клинических наук, входящих в круг медицинского образования, психиатрия занимает несколько особое место.
Она, подобно психологии, стоит на стыке двух основных разделов нашего знания – знания биологического и знания гуманитарного (вернее, гуманитарно-философского), включая в себя данные, касающиеся этих двух разделов нашего знания и опыта, двух форм подхода, двух направлений нашего научного мышления.
Одностороннее биологизирование психиатрического знания, крайне упрощая все те сложные явления, с которыми имеет дело на каждом шагу психиатрия, далеко не охватывает все относящиеся к ней фактические данные.
Точно также и противоположное этому направление, игнорирующее чрезвычайно богатый и ценный материал, касающийся биологических основ психиатрии, отрывает ее от всех прочих клинических медицинских дисциплин и ведет к выхолащиванию из нее наиболее трезвых, теоретически и практически ценных биологических корней.
Только в постоянном сочетании биологического и философски-гуманитарного подхода и понимания создается целостный, наиболее исчерпывающий всеохват, который только и возможен по отношению к такому многообразному материалу, каким является материал психиатрического знания и опыта.
Здесь, однако, нередко возникает недоразумение, обусловленное , по нашему мнению, неправильным пониманием некоторых общих понятий.
Это высказываемое некоторыми обвинение в эклектизме такого построения научного знания. Чтобы устранить это недоразумение, необходимо сделать оговорку.
Подобно тому, как методологическая многогранность не есть эклектизм, так и совмещение двух подходов, двух направлений, тоже в конечном счете отличающихся друг от друга главным образом в методологическом отношении, не есть эклектизм.
Ведь уже сама методика нашего обычного клинического исследования, применяемого по отношению к нервным и душевным больным, как мы старались показать в одной из своих работ, представляется неизбежно многомерной.
При ней учитываются и данные субъективного порядка (жалобы больного), и данные объективные, полученные путем разных методов – соматоскопии, выслушивания, ощупывания, а также данные лабораторные химического и физического порядка.
Тем не менее, никому не придет на ум назвать такую методологическую многогранность, такой подход к больному эклектизмом, так как к подобного рода явлениям этот термин не применим.
Понятие эклектизма относится исключительно лишь к сфере нашего понимания, а не к формам нашего методологического подхода.
Эклектизм имеет в виду не целостность, не однородность этого понимания, тогда как при указанном нами многомерном подходе может в полной мере сохраняться монистичность нашего понимания, взгляд на психическое, лишь как на качественное, новое проявление единого материального начала.
В руководствах по психиатрии старых психиатров, как русских, так и иностранных, значительно чаще встречаются указания на разного рода нарушения в области моральной сферы.
Было бы очень интересно пересмотреть с этой точки зрения старые учебники психиатрии, сборники клинических лекций и прочее.
Не имею возможности специально этим заняться, можно лишь по памяти восстановить некоторые из относящихся сюда указаний.
Так, в учебнике Рыбакова «Душевные болезни» (Москва, 1917), в отделе разстройств душевной чувствительности упоминается о больных с явлениями hyperaesthesia moralis чрезвычайно сильно, по словам Рыбакова, возбудимых в отношении морального чувства.
«Самый ничтожный проступок – говорит Рыбаков, – самое незначительное нарушение правил нравственности, нередко влечет за собой жестокие угрызения совести или самое беспощадное осуждение со стороны такого больного».
Сейчас этот термин hyperaesthesia moralis уже не употребляется, такого рода симптом определяется уже иначе, входит в иные синдромы и нозологические единицы.
Однако, из этого не следует, что соответствующие этому термину явления больше не существуют, точно так же как все реже встречающееся упоминание об in sanitas moralis не упраздняет самого факта подобного рода психических нарушений.
Ведь все эти понятия не априорные, не предвзятые, а диктуемые самой жизнью, вполне конкретными жизненными явлениями.
Современная психиатрия, стремясь к объективности в своих научных определениях, естественно устраняет понятия в той или иной мере нечеткие, зависящие от субъективного их понимания.
Однако при этом существует другая опасность: не увидеть из-за деревьев леса, просмотреть за объективными определениями субъективную сторону дела, основную, ведущую, определяющую собой уже вторичным путем форму этого объективного обозначения. При таком подходе в руках нередко остается одна лишь скорлупа [явления], оболочка его, тога как самое существо как-бы просачивается сквозь пальцы, оставаясь для психиатра незамеченным.
И подобно тому, как при физиологической или биохимической интерпретации тех или иных клинических психиатрических феноменов роль и значение чисто психического фактора, как такового, часто совершенно упускается, как-будто дело идет лишь о соматически реагирующем организме, или во всяком случае недооценивается, подобно этому и в пределах уже чисто психических проявлений, при объяснении мотивов тех или иных психических реакций роль и значение морального фактора тоже либо совершенно упускается из виду, либо недооценивается.
Психиатрия в известном плане сближается с юриспруденцией, главным образом в сфере юридической практики, где те или иные заключения социально-правового характера не могут во многих случаях быть полноценными без учета данных, которые представляет в распоряжение судебных органов психиатрическая экспертиза со всем имеющимся в ее распоряжении знанием и опытом.
Область права еще ближе стоит к сфере морали – моральных понятий, оценок, – хотя прямо и непосредственно эти моральные понятия и оценки, в противоположность тому, что имеет место в психиатрии, в ней не фигурируют.
Вот почему очень часто стороны, – участники судебного процесса, – ссылаясь на нормы чисто морального порядка и взывая в своих суждениях к совести судей, к их чувству долга, лишены бывают возможности ссылаться на те или иные положения закона, в которых прямо и непосредственно выдвигались бы требования, именно как требования морального характера, такие положения кодекса, где in toite lettre употреблялись бы этические термины – совесть, мораль, аморальные поступки и прочее, в такой же мере, какой они существуют в психиатрической терминологии, как moral insanity, Krankheitsgewissen, анэтический синдром и прочее в том же роде.
Считать, что совесть, мораль и прочее представляются идеалистическими понятиями, конечно, совершенно неправильно.
Эти понятия являются формами осознавания нами самих себя и окружающих и в связи с этим формами нашего поведения, выработанными в условиях социальных взаимоотношений, наиболее дифференцированными проявлениями социального порядка.
Чем выше культурный уровень населения, чем более дифференцированы в нем социальные взаимоотношения, тем больше требования, предъявляемые к личности окружающей ее социальной средой, тем более углублены и уточнены эти требования.
Сума этих высоко дифференцированных социальных требований и знаменует собой моральные нормы поведения каждого отдельного индивидуума, его отношение к самому себе и к окружающим.
Переходя к рассмотрению отдельных понятий чисто морального порядка, получивших право гражданства в современной психиатрии, и широко ею используемых, остановимся прежде всего на понятии морального слабоумия (insanitas moralis), введеного впервые в психиатрию Причардом в 1835 году.
Вопросу об insanitas moralis уделяется внимание многими из виднейших психиатров. Таковы работы Блейлера, Берце, Циена, Гаупа, Альбрехте, Антона, Мегендорфера и других, что говорит о чрезвычайно большом значении этого синдрома, как бы клинически (нозологически или синдромологически) он не интерпретировался, начиная от «врожденного преступника» Ламброзо и кончая современным растворением этого синдрома, с одной стороны, в определенном варианте психопатии, а с другой – в нажитых постпроцессуальных – посттравматических или постинфекционных изменениях личности.
…продуманную клинически наиболее содержательную и целостную классификацию душевных заболеваний, уточнения ее в течении ряда лет по мере накопления своих наблюдений и своего клинического опыта, Крепелин в вопросе о психопатиях, этого наиболее почетного и трудного раздела психиатрии, вынужден был заняться классификацией разных психопатических форм.
Здесь в числе прочих клинических вариантов он выделил форму психопатии, носителей которой он определил как антисоциальных психопатов или как врагов общества (Geselschaftsfeinde).
Как известно, этот раздел Крепелиновской классификации, и, в частности, вводимое им понятие врагов общества вызвали наиболее резкие возражения со стороны критиков.
Крепелина справедливо упрекали в том, что в разделе психопатий он изменил своему нозологическому принципу, так тщательно проводимому им в других областях психиатрии, и построил классификацию психопатий исключительно на психологических, в частности, характерологических началах.
Кроме того, Крепелина справедливо упрекали также в том, что понятие «враги общества» не является клиническим понятием, а оценочным суждением социального прядка, что оно очень условно и в разные исторические эпохи среди разных общественных классов имело разное значение. Так, многие из тех, кто именуется врагами общества в буржуазном строе, могут не представляться таковыми при строе социалистическом и обратно, и поэтому это определение теряет свою четкость и становится условным.
Все эти упреки, конечно, вполне справедливы, однако к чести Крепелина, надо подчеркнуть, что, впадая в противоречие с самим собой в качестве нозолога, он проявил исключительную последовательность как клиницист-наблюдатель.
Зоркость, наблюдательность Крепелина и наряду с этим его клиническая честность не позволили ему снижать и уплощать явления в угоду теоретическим построениям.
Крепелин всегда шел от жизни к обобщениям и поэтому, строя свою классификацию психопатий на чисто психопатологических началах, не мог поступить иначе. Вслед за ним и все другие авторы, писавшие о психопатиях (Шнайдер, Ганнушкин, Кан и другие) продолжали ту же линию Крепелина, лишь углубляя и уточняя отдельные патохарактерологические картины.
Все они в той или иной форме по существу сохранили лишь под разными наименованиями ту разновидность психопатий, которая в основном была выделена Причардом под именем moral insanity.
Что касается явлений, описываемых как hyperaesthesia moralis, то я вспоминал своего больного Дмитриева, молодого рабочего, чрезвычайно сенситивного психопата, который в силу своей чрезмерной сенситивности лишен был возможности жить в обществе на людях и вынужден был все время оставаться в пределах психиатрической больницы.
Почти каждый ничтожный проступок со стороны окружающих, каждое ничтожное нарушение обычных житейских норм, мимо которого мы обычно проходим совершенно равнодушно, вызывало со стороны Дмитриева бурную реакцию в виде слез, стонов, жалобных просьб и прочего.
Это случалось настолько часто и по столь ничтожному поводу, что обращало на себя внимание не только персонала, но и больных, которые прозвали его за это «Дмитриев-плаксун».
Придя в больницу, я нередко заставал Дмитриева плачущим. «О чем вы плачете, Дмитриев?» – спрашивал я его бывало. «Да как же мне не плакать, сегодня такой-то больной отказался от еды (от утреннего завтрака или обеда) и я это не могу спокойно переносить».
Однажды меня экстренно вызвали к Дмитриеву, с ним произошло несчастье. Гуляя по больничному двору, один больной, совершенно спутанный, как это не так уж редко бывает в условиях психиатрической больницы, внезапно возбудился и со всего размаху ударил другого, ни в чем не повинного больного. Этого уже Дмитриев вынести не мог: тщедушный и слабый, он стремительно взобрался по водосточной трубе на крышу и бросился оттуда вниз с целью покончить жизнь самоубийством. К счастью, все обошлось благополучно и дело ограничилось лишь ушибами.
В высшей степени интересен был подробно записанный мною, но, к сожалению, утерянный рассказ Дмитриева об его первом, как он говорил «падении» – об его первой половой связи с уличной проституткой.
Встретив на улице женщину, зайдя к ней в квартиру и совершив с ней половой акт, он внезапно почувствовал сильнейшие угрызения совести за содеянное. Он как был в одном нижнем белье стал на полу на колени перед девушкой и начал, обливаясь горькими слезами, просить у нее прощения.
Девушка, совершенно не ожидавшая такого поворота дела, в начале была очень изумлена, а затем, будучи, по-видимому, тоже весьма чувствительной, постепенно растрогалась и, в конце концов, тоже начала плакать и, став на колени перед Дмитриевым, стала в свою очередь умолять его о прощении.
Описание этой совершенно необычайной сцены, чрезвычайно ярко переданное самим Дмитриевым, когда они, стоя друг перед другом на коленях в одном нижнем белье, клали друг перед другом земные поклоны и молили друг друга о прощении, не уступает по своей эмоциональной интенсивности некоторым страницам из Достоевского.
[ВТРАЧЕНА СТОРІНКА]
…Упоминание о Gewissenparanoia – «паранойе совестливых людей» мы встречаем у Кречмера, в его монографии Der sensitive Beziehungswahn. В немецкой литературе в применении к нередко наблюдающейся агравации болезненных явлений, к преувеличению жалоб, употребляется термин Krankheitsgewissen – совесть по отношению к болезни.
Но если моральный фактор входит в описание некоторых болезненных форм и состояний, наблюдаемых в психиатрической практике, то в еще большей мере он входит в состав психиатрической терапии, и, в частности, психотерапии.
Психотерапевт, представитель рациональной психотерапии (Дюбуа, Марциновский) это в значительной мере и моралист. Тоже в известной мере и врач-дефектолог, врач-трудотерапевт.
Дюбуа, родоначальник рациональной психотерапии, определяет эту психотерапию как reeducation moral elemental.
Марциновский при своем методе лечения миросозерцанием идет в этом отношении еще дальше и уже всецело строит все отношение врача к больному на моральных началах.
Если биологов больше всего интересует проблема долголетия (Мечников, Богомолец), если продление жизни является также идеалом лечения врачей-соматиков, то психиатров и психотерапевтов – практических патопсихологов, больше всего интересует иное.
Душевные заболевания, как известно, в преобладающем большинстве случаев не ведут к смертельному исходу, они не укорачивают жизнь. Поэтому идеалом врачей психиатров, а также близких к ним практических психологов и психотерапевтов, является не продление жизни, а максимальное упорядочение ее, ее наибольшая полнота и насыщенность в смысле высших психических переживаний (проблема не что, а как).
В числе этих переживаний, дающих наибольшее душевное удовлетворение, создающих наибольшую душевную уравновешенность, моральные переживания – удовлетворение индивидуальных и социальных запросов совести – занимают, несомненно, первое место.
Эти, дающие наибольшее психическое удовлетворение, моральные переживания строятся, как известно, на определенной психической чуткости, на определенной форме эмоциональной откликаемости.
Эмоциональная откликаемость – явление сопереживания – играет, как известно, чрезвычайно большую роль в социальной жизни.
Однако, не всякое эмоциональное состояние другого человека, как показывает наблюдение, может вызывать у нас соответствующее сопереживание.
Мы, например, никогда не употребляем таких выражений, как со-гнев, со-тоска, со-уныние, со-депрессия и прочее в том же роде.
Отсутствие подобных неологизмов, или каких либо других слов, определяющих соответствующие сопереживания, конечно, не случайно.
Оно указывает на то, что жизнь не требует таких обозначений, так как они не оправдываются ею. И только для одной формы эмоционального состояния – для страдания, – существует термин, определяющий собой сопереживание этого эмоционального состояния другим лицом. Это понятие сострадание.
Для обозначения сострадания существует и другой термин: жалость. Такая форма сопереживания представляется чрезвычайно важной с точки зрения интересующей нас здесь проблемы морали.
Стоит вспомнить в этом отношении учение Шопенгауэра, считавшего сострадание основой морали, блестяще развившего этоу мысль в своих произведениях (Шопенгауэр, «Мир как воля и как представление», «Основные проблемы морали». См. Иодль, «История этики в новой философии. Том второй).
Иногда еще употребляется такое выражение как со-радость (со-радоваться чему-нибудь или с кем-нибудь), однако явление это встречается все же значительно реже, нежели сострадание, и во всяком случае, не играет в социальной жизни столь значительной роли.
К моральной проблеме явление со-радости имеет значительно меньшее отношение. Патологические личности с явлениями insanitas moralis – это не лица вообще эмоционально тупые, эмоционально безразличные (таковыми обычно бывают шизофреники, однако мы к ним не применяем термина insanitas moralis), а избирательно эмоционально дефектные, неспособные к сопереживанию страдания (к состраданию) при нередко полной сохранности всех других эмоциональных проявлений.
Муки грешников, угрызения совести преступников, самообвинения кающихся, моральные искания сенситивных субъектов – все это очень большие явления, глубоко захватывающие всю психическую сферу субъекта, – явления, которые до сих пор почему-то находились вне сферы наблюдения и изучения профессиональных психологов, психопатологов и психиатров.
Это состояния при которых все стержневое, основное и ведущее [при психиатрическом к ним подходе] как-бы просачивается сквозь пальцы, не оставляя после себя на поверхности никаких следов.
Все это научно ускользающие, психологически беспризорные, несмотря на всю свою яркость, психические феномены.
Отсюда естественно никому и в голову не приходит мысль об определении в элементарных учебниках психологии таких понятий, как моральные переживания, как укоры совести, как состояния морального удовлетворения и прочее в том же роде, несмотря на всю [жизненную значимость и … такого рода феноменов].
Все это находится за пределами школьной психологии и вообще, всех психологических школьных знаний.
А между тем, это прежде всего и больше всего материал психолога, прежде чем стать объектом внимания моралиста, философа или же представителя религиозного мировоззрения.
Все эти эмоционально насыщенные переживания должны объединяться общим понятием психологии и патопсихологии морали (психологии совести и болезней совести).
Психологические явления, определяемые понятием угрызения совести, осуществляются чаще всего в ночное время, в период, когда физиологически больше всего выявляется склонность к депрессивным состояниям. Отсюда и большая частота самоубийств в ночное время.
Таким образом, если аморальные поступки – разного рода правонарушения уголовного характера, – чаще всего осуществляются ночью, когда в психической жизни больше всего выступает на первый план эмоциональность, то и противоположное им явление – моральные состояния (не поступки, а главным образом состояния) в форме укоров, угрызений совести, тоже осуществляются по преимуществу ночью. Об этом хорошо говорит Пушкин:
Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья
И далее:
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
Нельзя закрывать глаза на то, что иногда угрызения совести принимают характер навязчивых идей, временами весьма даже тяжелых обсессивных состояний.
И если можно говорить об особых формах бреда, обозначаемых немецкими авторами как Gewissenparanoia – «паранойя совестливых людей», то также, по нашему мнению, можно говорить об особых формах обсессивных состояний, о навязчивости совестливых людей.
Морально-переломные моменты в жизни личности представляют собой чрезвычайно важный феномен как в области нормальной психологии, так и в области психиатрии.
Причины этого перелома могут быть разные – внешние, внутренние, значительные и малозначительные (случайные).
Большой интерес в этом отношении представляет роль этих морально переломных моментов в жизни некоторых великих моралистов, религиозных подвижников, святых.
Внешними причинами чаще всего являются тяжелая болезнь, психическая травма, смерть близкого человека, разорение, тюрьма, позор и прочее. В меньшей мере социальные события.
Внутренними причинами являются внезапно возникающие внутренние переживания: жалось, сострадание, или такие явления, как галлюцинации (классическим примером перелома, связанного со слуховыми галлюцинациями, является момент из жизни апостола Павла, впервые услышавшего голос: «Савл, Савл, за что ты гонишь меня?».
Морально-переломные моменты на фоне разных психических структур отличаются своими характерными особенностями. Так, на фоне эпилептоидной структуры личности резко выступает в таких случаях переход от душевной черствости, жестокости к стойкому самообузданию, связанному с чисто внешней религиозностью. Классическим примером может служить Некрасовский «Влас»:
Так в прошлом
Говорят, великим грешником
Был он прежде. В мужике
Бога не было, побоями
В гроб жену свою вогнал,
Промышляющих разбоями,
Конокрадов укрывал;
У всего соседства бедного
Скупит хлеб, а в черный год
Не поверит гроша медного,
Втрое с нищего сдерет!
Брал с родного, брал с убогого,
Слыл кащеем-мужиком;
Нрава был крутого, строгого
Наконец, и грянул гром!
Влас тяжело заболевает и находясь уже при смерти, испытывая устрашающие галлюцинации, дает обет, если останется жив, посвятить всю свою остальную жизнь делу морально-религиозного подвига.
Роздал Влас свое имение,
Сам остался бос и гол,
И сбирать на построение
Храма божьяго пошел.
С той поры мужик скитается
Вот уж скоро тридцать лет,
Подаянием питается –
Строго держит свой обет.
Сила вся души великая
В дело божие ушла;
Словно сроду жадность дикая
Непричастна ей была…
При всей грубости, топорности такого рода психических организаций невольно поражаешься их изумительной стойкостью и последовательностью в осуществлении намеченных ими целей.
На фоне циклоидной структуры личности этот перелом выражается в переходе от беспечно веселой, разгульной жизни к деятельным формам добра и самоограничения при сохранности бодрого, жизнерадостного отношения к окружающему (классический пример – Франциск Ассизский).
На фоне истероидной структуры, носящей часто на всех этапах своего развития явно сексуальный характер, этот перелом сказывается в замене сексуальной сенситивности мистическо-моральной. Примером этого могут служить евангельская Магдалина, или святая Тереза, согласно ее чрезвычайно яркому жизнеописанию.
У лиц шизоидной структуры моральный перелом может сказаться в еще большей заостренности шизоидных черт – в большей самоуглубленности, большем отрыве от социальной среды.
Таковы многие христианские подвижники отшельнического типа – одинокие анахореты, молчальники.
Таковы также некоторые углубленные мыслители с заостренными исканиями индивидуального порядка (классические авторы выдающихся «Исповедей», «Дневников», «Заметок» и прочего).
Некоторые перемены в структуре личности часто болезненного характера в отдаленные, малокультурные эпохи нередко оценивались окружающими как проявление морального перелома…
Конечно, за пределами чисто психиатрического подхода в понимании, как всегда в таких случаях заслоняющего своей чисто внешней оболочкой основное, главное – само содержание морального перелома, в громадном большинстве случаев чрезвычайно поучительного для каждого вдумчиво относящегося к жизни человека, существует целый ряд душевно переломных форм, где указанные конституциональные структуры никакой роли не играют и поэтому бессмысленно и нелепо было бы их искать, и где все дело только в самих переживаниях, в содержании предшествующей этому перелому и последующей за ним психической жизни.
Психологическому анализу этих душевных переломов религиозного характера посвящены блестящие страницы замечательной книги Джемса «Многообразие религиозного опыта» (см. главы, относящиеся к так называемому «обращению»).
Само собой разумеется, что далеко не все эти переломные моменты осуществляются в религиозно-моральном плане.
Они часто не имеют никакого отношения к религии и осуществляются в сфере лишь идеологических и нравственных переживаний.
Примером могут служить потрясающие по своей моральной насыщенности переломные моменты в жизни Толстого в период написания «Исповеди» и под конец жизни в период ухода. Таковы также переломы в жизни многих выдающихся людей (см., например, замечательную биографию Печорина, составленную Гершензоном).
Если же мы приводим здесь примеры переломов главным образом религиозно-морального характера, то только лишь потому, что эти примеры особенно демонстративно подчеркивают их связь с конституционной структурой личности.
Все это, к сожалению, проходит мимо психиатра совершенно не задевая его, а между тем, это как раз сфера психологически углубленного понимания и практически важных для повседневного врачебного поведения выводов.
Никто почему-то не говорит в настоящее время о морализирующем в некоторых случаях влиянии болезни, особенно некоторых ее периодов (например, периода реминисценции), о морально возрождающей роли процесса выздоровления, особенно после остро или хронически протекающего заболевания (после длительного пребывания в постели, после состояния на грани со смертью, после резкой астенизации и последующего за ней стенического нарастания.
Врач, стоящий на высоте своей профессии, а также своего гуманного отношения к больному в течение всего периода болезни, успешно лечащий, поддерживающий ободряющий, приобретший в силу этого большой авторитет в глазах этого больного, часто становится совершенно несостоятельным в период его выздоровления, когда к этому врачу предъявляются уже иные, значительно большие требования не столько как к врачу, сколько как к учителю жизни, способному дать идейную и моральную поддержку духовно возрождающемуся после внутреннего перелома человеку.
Для того, чтобы ответить на такого рода запросы необходимо и самому обладать тем широким, глубоко продуманным, деятельным мировоззрением, которое пронизывает всю личность человека и которое, к сожалению, встречается далеко не часто, хотя как раз психиатрия должна была-бы, казалось, дать в этом отношении наибольший материал.
Психиатрия, давая в развернутом исчерпывающем виде представление о психическом негативе, тем самым заостряет, как никакая другая отрасль знания, представление о позитиве, о личности, как носительнице полноты и насыщенности психических переживаний, заостренно индивидуальной неповторимой психической структуре и поэтому должна была-бы, казалось, порождать у психиатра более целостное, продуманное мировоззрения, нежели какая либо другая профессия.
Психиатр больше, чем кто либо другой, должен быть готов отвечать на общие вопросы, которые предъявляются теми из его пациентов, которых переживание болезни ставит лицом к лицу с основными проблемами осмысленного, разумного человеческого существования, вопросами ценности жизни вообще (лица с наклонностью к суициду), гносеологически моральных ее основ (некоторые чрезмерно сенситивные лица, относящиеся к категории degeneree suporior).
Период реконвалесценции, как показывает наблюдение, нередко сопровождается, особенно в молодые годы, таким подъемом всех психических и физических сил, таким заострением восприятия и переживаний, что нередко играет роль переломного момента в жизни человека, определяющего собой все дальнейшее направление его духовных запросов, исканий, всего его поведения.
Кроме явлений реконвалесценции толчком к возникновению моральных запросов может, как показывает наблюдение, служить и сама болезнь, как таковая.
Часто говорится об эйфории, возникающей у туберкулезных, о характерном для них особенно повышенном настроении, но почему-то не говорится об отношении между легочным туберкулезом, связанной с ним особой формой астенизации, моральным перерождением человека.
А между тем, как показывают биографические данные, иногда крупные моралисты были туберкулезными, и это, конечно, не случайно. Эту связь очень тонко и проникновенно характеризует Достоевский в замечательном описании, посвященном юноше, брату старца Зосимы.
Это описание у Достоевского полно такого психиатрического интереса, что мы не можем не остановиться на нем подробнее.
Юноша, брат старца Зосимы, был, по его словам, характера вспыльчивого и раздражительного, но добрый, не насмешливый и странно молчаливый, особенно в своем доме, со мной, с матерью и с прислугой. Учился в гимназии хорошо, но с товарищами своими не сходился и не ссорился.
На шестой неделе поста стало вдруг брату худо, а был он и всегда нездоровый, грудной, сложения слабого и наклонный к чахотке, тонкий и хилый. Доктор вскоре шепнул матушке, что чахотка скоротечная и что весны не переживет.
Брат вскоре слег окончательно в постель и тут-то начался в нем какой-то внутренний душевный перелом: сидит тихий, кроткий, улыбается, сам больной, а лик веселый, радостный. Изменился он весь душевно – такая дивная началась в нем вдруг перемена! «Матушка, не плачь, голубушка, говорит, много еще жить мне, много веселиться с вами, а жизнь-то, жизнь-то веселая радостная! Жизнь есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всем свете рай».
И дивились все словам его, так он это странно и так решительно говорил, умилялись и плакали. «Если бы помиловал Бог и оставил в живых, говорил он, стал бы он служить всем, ибо все должны один другому служить. Всякий из нас перед всеми во всем виноват, а я больше всех». «Матушка, кровинушка ты моя, говорит (стал он такие любезные слова тогда говорить, неожиданные), кровинушка ты моя милая, радостная, знай, что воистину всякий пред всеми за всех и за все виноват. Не знаю я, как истолковать тебе это, но чувствую, что это так, до мученья. И как это мы жили, сердились и ничего не знали тогда?» Так он вставал со сна каждый день все больше и больше умиляясь и радуясь и весь трепеща любовью. «И одного дня, – говорил, бывало, – довольно человеку чтобы все счастие узнать. Чего мы ссоримся друг перед другом, хвалимся, один на другом обиды помним: прямо в сад пойдем и станем резвится, друг друга любить и восхвалять и целовать и жизнь нашу благословлять».
«Не жилец он на свете, ваш сын, – промолвил как-то доктор матушке, – он от болезни впадает в помешательство».
Наступил весна, прилетели птички, а он, глядя в окно на птичек, стал и у них просить прощения. Много еще говорил он таких дивных и прекрасных, хотя и непонятных нам тогда слов. Скончался же на третьей неделе после пасхи, в памяти, и хотя говорить уже перестал, но не изменился до самого последняго своего часа: смотрит радостно, в очах веселие, взглядами нас ищет, улыбается нам, нас зовет».
К этому блестящему описанию морально возрождающей роли легочного туберкулеза, так удивительно ярко предоставленным Достоевским, ничего уже нельзя добавить.
Здесь, кстати, нужно будет отметить совершенно особое, правда, очень кратковременное, не встречающееся ни в каких других случаях, состояние, наблюдаемое нередко у шизофреников при выходе из инсулиновой комы, – это состояние экстаза, восторга, умиления, несомненно насыщенное в это время определенным положительным моральным содержанием (больной всех любит, всех жалеет, всем желает добра, готов в этот момент сделать всем только хорошее).
Как известно, в периоде выздоровления после перенесенного психического заболевания бывший до этого бред либо признается самим больным совершенно абсурдным (такова наиболее частая форма выздоровления: критическое отношение к бывшему бреду), либо подвергается последующей рационализации (таково кататимическое осмысление, оправдание бреда).
В некоторых – правда, значительно более редких случаях, – последующее постепенное и незаметное изменение бредовых идей осуществляется путем перехода их в схожие с ними по своей направленности, но вполне естественные, свойственные и психически здоровому человеку, идеи.
В этом отношении очень интересен наблюдавшийся нами случай, при котором ярко выраженные в период психического заболевания идеи самообвинения, греховности, грубые по своему гиперболизму и своей необоснованности, позднее, в периоде выздоровления, превратились в заостренно моральные идеи – в стремление всем помочь, никого не обидеть, дать милостыню каждому нищему, помочь трудящемуся и прочее в том же роде (больной Б.).
Сообщая об этом моральном состоянии Б., установившемся у него после выздоровления, родные его, однако, указывают на нежизненность такого рода моральных крайностей. «Разве так можно дальше жить?» – с недоумением спрашивают они.
Здесь мы тоже имеем моральную сенситивность, выступающую, однако, как отдаленное последствие бреда, однородного с ней по своей направленности, заключающего в себе элементы подлинных моральных переживаний, лишь доведенных в состоянии болезни до абсурда.
Случаи, когда после физической травмы развивается особая чувствительность ко всякого рода несправедливости, что ведет к постоянным конфликтам с окружающими, встречаются весьма часто. В преобладающем большинстве случаев они принимают форму крайней неуживчивости, придирчивости, чрезмерно повышенного эгоцентризма, но только прикрывающегося громкими словами (нередко даже и аморальными формами поведения), иногда же носящими характер подлинной моральной сенситивности по отношению ко всякой несправедливости.
О том, что при душевных заболеваниях, особенно в ранних стадиях их развития, весьма ярко сказываются препсихотические свойства личности, ее основные характерные особенности, стирающиеся позднее в далеко зашедших стадиях болезни и то главным образом при органических формах, уже давно известно психиатрам.
С этой точки зрения большой интерес представляет обострение препсихотических свойств у некоторых выдающихся личностей, заболевающих психической болезнью.
Психиатр доктор Аптекман, автор работы, посвященной болезни Успенского, рассказывает о том, как в период душевного заболевания у Успенского, проявляющего и до того… моральную чуткость, эта моральная чуткость часто особенно обострялась.
Так, он жалел всех людей, жалел животных, жалел даже растения, возражал с точки зрения этой жалости против срывания листьев, цветов, плодов.
Известный книгоиздатель Колбасин, друг Тургенева, хорошо знавший и Успенского, вспоминает, что у Успенского, страдавшего в период болезни обильными слуховыми галлюцинациями, эти галлюцинации принимали иногда совершенно особый характер. «Слышите, слышите, – с жаром обращался Успенский к окружающим, – даже камни на мостовой кричат о человеческом страдании!»
Подобного рода обострение моральной сенситивности обнаруживалось в период психического заболевания и у Гаршина, что он позднее и пытался передать в своем замечательном рассказе «Красный цветок», носящем, как известно, автобиографический характер.
Моральные переживания настолько важный фактор в жизни человека, что они не могут не наложить своего отпечатка и на всем его внешнем облике, не породить соответствующее изменение чисто физиологического порядка.
Очень интересно стремление некоторых мыслителей, а также врачей-психиатров, найти эти физиологические особенности, определяющие собой моральные переживания. В записной книжке Толстого, куда он заносил возникавшие у него на жизненном пути мысли, наблюдения, имеется такая, в высшей степени интересная, по нашему мнению, запись:
«Физические труды и страдания прокладывают на лице поперечные морщины, умственная усиленная деятельность – продольные; нравственные бесцельные страдания – на лбу, над носом собирают крупные мясистые морщины. У человека, который вел умеренную добрую жизнь, звездообразные морщины. Преобладание плотской жизни – морщины на нижней части лица, преобладание духовной – на верхней».
«Вообще физиология морщин, – говорит в заключение Толстой, – может быть очень верна и ясна».
Таким образом, моральные переживания, духовная жизнь, ее добрый, как говорит Толстой, характер, наличие душевных страданий – все это связано не только с определенной динамикой, по которой мы легко узнаем нравственно страдающего человека, но и с определенной статикой в виде различных форм лицевых морщин.
В статье «Физиология нравственных страданий» Сикорский подробно описывает физиологические явления со стороны дыхания, кровообращения, сердечной деятельности, вегетативной нервной системы, связанные с явлениями страдания. Отличая нравственные страдания от физических, автор указывает на ряд особенностей, присущих нравственным страданиям.
Так, в частности, по отношению к дыханию Сикорский отмечает «в состоянии тоски не только вдыхание, но и выдыхание совершаются активно, и при том выдыхание совершается с большей силой и даже судорожно. Такой тип дыхания называется стоном. Стон является спутником и показателем острого физического страдания или тяжкой нравственной боли. При умеренных нравственных страданиях стон не слышен. Однако же, записывая на точном приборе дыхание стонущего человека и дыхание нравственного страдальца и сравнивая их между собой, мы видим, что оба вида дыхания совершенно между собою сходны. Очевидно, что и физическая боль, и нравственная боль одинаковым образом нарушают деятельность дыхательного центра, одинаковым образом изменяют дыхание. Таким образом, – резюмирует свои наблюдения Сикорский, – дыхание человека, страдающего нравственно, есть в сущности молчаливый неслышный стон в самом точном значении этого слова.
О том, что переживания морального характера могут в некоторых случаях иметь и свои физиологические коррелятивы (формы своего физиологического выражения) доказывает приводимые нами в нашей работе «Кожа и психика» случаи, когда у субъекта с особенно повышенной вазомоторной лабильностью малейшие душевные переживания легко вызывают изменение в кровенаполнении кожи лица.
Это все люди, определяемые в общежитии, как конфузливые, у которых бросается в глаза особое свойство отвечать кожной реакцией – разными формами покраснения, реже побледнения, общими или локальными, на целый ряд самых разнообразных душевных движений (на смущение, стыд, любовь, ненависть, беспокойство, страх, вдохновение, экстаз и прочее («У меня, если можно так выразиться, «кожная совесть» – как удачно, по нашему мнению, определил эту свою особенность один наш больной, – моя моральная чуткость всегда в той или иной форме отражается, к моему большому огорчению, на моем лице».
Сострадание не есть простая зеркальная отображаемость, осуществляемая по типу эхолалии и эхопраксии, или повторяемость определенных переживаний как следствие внушаемости, оно не представляется, подобно этим феноменам, выявлением простейших механизмов подкоркового типа.
Сострадание представляет собой сложную форму реакции на определенные эмоциональные раздражения. Она обычно входит в состав тех эмоционально насыщенных, комплексных переживаний, которые мы относим к категории переживаний морального характера.
Если мы в настоящее время делим все реактивные психические проявления на две основные категории – на примитивные реакции и реакции личности, то к числу реакций личности, нередко весьма сложных по своей структуре, должны быть отнесены и те комплексно насыщенные реакции личности, которые мы в жизни определяем как мысли, высказывания, отдельные поступки и некоторые сложные формы поведения морального порядка, а саму форму социально наиболее дифференцированной комплексности определяем понятием совести.
Совесть представляет собой понятие не только философски-моральное, но и психологическое, поскольку оно связано с психическими переживаниями, нередко весьма интенсивными.
Таким образом, моральные поступки, мысли, переживания, представляют собой особую сложную форму реакций личности.
Такие же формы поведения, как совесть, совестливые мысли, реакции, покаяние, угрызения совести и прочее представляют собой особые варианты комплексных переживаний, вырабатывающиеся в процессе социальной эволюции, в условиях максимальной социальной дифференцировки.
В противоположность другим видам комплексности моральная комплексность бывает иногда настолько эмоционально насыщенной, что она может даже преодолевать (заглушать, сводить на нет в силу своей доминантности) все другие эмоционально насыщенные переживания, как переживания боли, страдания, может даже совершенно заглушить самый мощным из наших инстинктов – инстинкт самосохранения.
Отсюда явления моральной жертвенности, как высшие, наиболее дифференцированные форма повеления, всегда игравшие и сейчас играющие такую выдающуюся роль в социальной жизни.
Сенситивность как форма социальной откликаемости, является тем основным ведущим фоном, на котором, как показывает наблюдение, легче всего могут разыгрываться все эти явления морального порядка.
В явлении вытеснения нередко играет роль совесть.
Если нормальное забвение является чисто физиологическим, или, вернее, психолого-физиологическим феноменом, то вытеснение нередко представляется явлением морального порядка.
Моральных характер вытеснения хорошо описывает Ницше: «Ты это сделал, – сказала моя память. Ты этого не мог сделать – сказала моя гордость. И память сдалась».
О том, что чисто психиатрический подход, психиатрическое понимание, часто не охватывает самого существа душевного состояния субъекта, может служить иллюстрацией следующее наблюдение, заимствованное нами из нашей совместной работы с доктором Перельмутером, посвященной проблеме самооговора.
Б-ной С-в, 39 лет. Военнослужащий. Поступил 2/ІІІ 1945 г. в Психиатрическую клинику Одесского медицинского института. Из анамнеза выясняется, что больной родился и вырос в Ленинграде. Там же закончил среднюю и высшую школу (Политехнический институт); получил звание инженера кораблестроителя, однако по специальности не работал; сразу по окончании Института под влиянием уговоров товарища устроился химиком на одном из предприятий. Вскоре оставил эту работу, переменил ряд профессий (служил бухгалтером, агрономом и прочее). Разъезжал по многим городам. В 1942 году добровольно вступил в ряды Красной Армии, с тех пор служит на младших офицерских строевых должностях. Почти беспрерывно находится на фронте. Имеет 5 ранений в мягкие ткани и две контузии – сравнительно легкие, скоро возвращался в строй.
Был женат, имел ребенка. Семья погибла в Ленинграде во время блокады. В наследственности не отмечает ничего патологического.
Сам больной по характеру всегда отличался нестойкостью убеждений и принципов, податливостью, легко воспринимал и проникался чужими идеями и мыслями. Был способен на легкомысленные поступки, но очень быстро каялся в них, его «мучила совесть» и он стремился оправдаться, заглушить свою вину.
Такие периоды совестливости и чувства раскаяния обычно наступали после кратковременной «развязности» в связи с выпивкой. Он чувствовал себя глубоко виноватым перед девушкой, за которой ухаживал и говорил ей в состоянии опьянения пошлости, перед приятелем, с которым он неделикатно поступил или выпивал за его счет и т.п. Б-му на следующий день становилось стыдно, он не смел поднять глаза на «обиженных», принимал все меры, чтобы задобрить их, загладить свою вину, и хотя те совсем не чувствовали себя обиженными, считал своим долгом извиняться перед ними, одаривать их.
Несколько легкомысленный по характеру, легко увлекающийся, он часто любил выпить в компании и в одиночку, но не напивался допьяна и некогда не опохмелялся. Алкоголь действовал на него возбуждающе, придавал бодрость и храбрость, давал возможность «разгуляться».
С точки зрения психиатрической можно рассматривать С. как реактивно-лабильного истероидного психопата, а возникающие у него яркие зрительные галлюцинации наряду с бывшим однажды явно делириозным состоянием (борьба в лесу с немцем), как результат его алкоголизма (алкогольный галлюциноз, делириозная вспышка).
Все это может быть и так и психиатрически вполне правильно, но при такой расценке, при таком понимании проскальзывает сквозь пальцы и совершенно уходит из поля зрения самое основное и самое главное, отличающее этот случай от других – ускользает общая направленность всех переживаний С., направленность его галлюцинаторно-бредовых продукций.
Ведь не всякий истерик и не всякий алкоголик мыслит и действует в таком направлении, порождает такого рода продукции, связанные единым общим началом – угрызениями совести, муками совести.
Этот случай можно, по нашему мнению, рассматривать, как патологический самооговор морального происхождения, возникший у морально-сенситивной личности с явлениями галлюцинаторно-бредовой готовности, порожденной алкоголизмом. Механизм этой готовности тоже используется субъектом для моральных целей, как форма реализации угрызений совести, чему противодействует, в качестве самооправдания, многократно [высказываемое]… («я никогда не был мародером» – часто говорил он).
По поводу этого случая я с грустью вспоминаю недавний горячий призыв умудренного жизненным опытом венского психиатра Странского, обращенный к психиатрам всего мира: «Долой из застенков психиатрических больниц! Идите в жизнь! Пусть человечество наконец узнает, что вы собой представляете и что вы ему сможете дать!»
И я с горечью думаю о том, как все мы еще не приспособлены к жизни, к тому, чтобы дать ей новое вне привычного подхода, установленного в пределах психиатрических стационаров, и вообще вне обычных в психиатрической практике форм, и поэтому сколь многое прозевываем в жизни.
Хотя страдание сам по себе представляет собой состояние ненормальное, следовательно, паталогическое, однако можно говорить специально о патологии страдания.
Как особая, высшая форма отступления от нормы, должна быть отмечена та, при которой человеку удается целиком превозмочь страдание и боль благодаря другому, более мощному нервно-психическому состоянию, подавляющему, а иногда и сполна аннулирующему эти страдальческие переживания.
Возможность такого полного аннулирования боли путем подавления ее другим, более мощным стимулом, блестяще экспериментально доказал в своих опытах Павлов, что, как известно, вызвало у присутствовавшего на этих опытах знаменитого физиолога Шерингтона восклицание: «Теперь я понимаю мучеников, спокойно и радостно умирающих за идею!»
Такой тип страдальческих переживаний в условиях социальной жизни человека особенно характерен для явлений морального порядка.
Отсюда столь часто отмечаемая жертвенность страдальческих переживаний, что в обычных условиях совершенно не свойственно всем другим видам страдания.
В упомянутой выше статье Сикорского: «Физиология нравственных страданий» автор указывает на то, что «нравственные страдания истощают мозг гораздо сильнее, гораздо глубже, чем страдания физические. Нравственные страдания – говорит он, – тягостнее физических и человек готов предпочесть последние первым, готов скорее подвергнуться физическим мукам, нежели позору, готов скорее перенести смерть, чем бесчестие.
Иногда это ослабление эмоционального контакта с окружающими, отсутствие сопереживаний, в частности, сострадания, мучительно переживается самим субъектом (то, что носит название anaestesia dolorosa psychica).
Весьма характерна эволюция сострадания с возрастом. Так, в детстве сострадание, как и вообще все формы сопереживания, еще очень слабо выраженны.
Отмеченное Пиаже явление «монолога вдвоем» у детей, когда дети в известном возрасте, играя вместе, одновременно, независимо друг от друга, говорят и делают каждый свое (что, кстати заметим, отмечали и мы среди некоторых категорий душевно-больных), лучше всего иллюстрирует это недоразвитие в детском возрасте социального контакта, явлений сенсорной и вообще психической откликаемости, сопереживаний, при отмечающихся нередко у них в этом возрасте автоматической моторной отображаемости типа эхопраксических, эхолалических реакций.
В молодости, в «рекрутском» периоде жизни, сострадание часто еще в полной мере недоразвито. С годами, с накоплением жизненного опыта, сфера сострадания у каждого мыслящего, вдумчиво относящегося к жизни человека, все более расширяется и углубляется.
Очень показательные примеры можно в этом отношении извлечь из жизни выдающихся людей. Таков Толстой, в молодости активный участник боевых стычек на Кавказе, позднее участник Севастопольской войны, а в пожилом возрасте убежденный вегетарианец.
Таков также Пирогов, в молодости легко, без всяких задержек оперировавший животных и не останавливающийся перед любой вивисекцией, позднее же, в пожилом возрасте, ставший, как он сам говорит в своем дневнике, в этом отношении все более осторожным, так как «никогда не мог забыть выражения глаз замученных им животных».
Со-страдание, относясь к категории со-переживания (сочувствия в широком смысле этого слова, чувственных созвучаний), и представляя собой один их видов сопереживания, отличается, однако, некоторыми, свойственными только ему особенностями.
Оно, во-первых, часто бывает не однородно с вызывающим его состоянием.
Так, со-радость обычно бывает однородна с порождающей ее радостью, тогда как сострадание, например, при боле, не связано с переживанием боли самим страдающим, а с совершенно другой формой страдальческого чувства – с чувством жалости.
Точно так же мы, сострадая душевно-больным, которые сами чаще всего не осознают своей болезни, не страдают, переживаем не то, что переживает объект самого сострадания.
Во-вторых, оно по интенсивности чаще бывает менее сильным, чем само страдание. Если со-радость может быть так же интенсивна, как и вызывающая ее радость, то этого чаще всего не бывает в такой мере при сострадании.
В-третьих, оно не ведет, как некоторые другие виды со-переживаний, к однородным действиям.
Так, человек, переживающий страх, испуг, легко следует за действиями другого и начинает бежать вместе с ним.
Сострадание, даже будучи однородным по переживанию, тоже часть ведет к действиям, однако не однородным, а только к тем, которые могут облегчить сострадание другого.
Радость обычно не вызывает особого к себе уважения, тогда как страдание вызывает к себе помимо сопереживания и уважение.
Знаменитая сцена между Раскольниковым и Соней, когда он, почувствовав ее страдания, падает перед ней ниц, символически преклоняясь перед страданием всего человечества, может служить иллюстрацией этого уважения, вызываемого человеческим страданием.
Некоторые формы страдания, социальные, массовые, принимая характер величия, вызывают по отношению к себе особое чувство благоговения, окружаясь ореолом святости.
В распространенной в последнее время красноармейской песне настоящая война названа «священной» («идет война народная, священная война»). Этим определяется не только цель настоящей войны (освобождение Европы от гитлеризма), но на том сказывается также и уважение к жертвам ее, признается святость связанных с ней переживаний, святость тех, выражаясь словами Сталина «неисчислимых лишений и страданий, которые переживал наш народ в ходе войны».
Этот признак величия, святости не присущ в такой мере противоположному страданию переживанию – переживанию радости, даже в его высшей форме.
Аморальное развитие личности, как отдаленное последствие перенесенных некогда травм, инфекций, интоксикаций, как форма как-бы психического вывиха и последующего за ним все более нарастающего расхождения соотношений между дефектной структурой психики и предъявляемыми к ней жизненными требованиями, все более наростающей дисгармоничности этих соотношений в форме как-бы расходящихся ножниц, прежде всего и больше всего бьет по тем элементам психики, ее биологически и социально наиболее поздним образованиям…
Аморальность это не столько однократный преступный акт, и даже не столько спорадически возникающие преступные акты (в этом отношении взрывчатые реакции эпилептиков, связанные с агрессивными действиями, хотя бы повторяющиеся, еще не могут определять все поведение такого рода лиц, как аморальное, а определенная форма поведения, при этом определяемая не столько грубостью отдельных актов, сколько их непрерывностью и многообразием.
[ВТРАЧЕНА СТОРІНКА]
Многие отмечают, что психиатрия охватывает собой только область патологической жизни. Такое понимание нам кажется крайне узким; при нем остается в стороне, как бы беcпризорным, целый ряд болезненных психических явлений, нуждающихся в помощи врача.
С другой стороны, нередко наблюдается противоположная крайности и психиатрия как-бы отождествляется с психическими явлениями вообще, тем самым захватывая и покрывая сбой всю область нормальной психологии. При таком понимании от психологии, как отдельной самостоятельной науки, ничего не остается.
Мы считаем, что психиатрия охватывает собой не только патологии психической жизни, но и всю сферу болезненных психических явлений, хотя по существу не патологических.
Так переломные моменты в жизни личности не относятся к патологии, однако они и не представляют собой естественного нормального психического роста, постепенного развития. Они нередко сопровождаются тяжелыми болезненными переживаниями и далеко не во всех случаях оканчиваются благополучно в смысле выработки нового мироощущения, нового взгляда на жизнь.
Иногда они кончаются надрывом, опустошением души, распадом бывшего до этого мировоззрения, взамен которого не создается нового.
Этот душевный надрыв, это опустошение души приобретает особенно большое значение в настоящее время в связи с исключительными по своей напряженности переживаниями военного времени.
Нам приходится сейчас часто наблюдать среди молодежи, проведшей все эти годы на фронте, в атмосфере непрерывных смертей среди окружающих и непрерывного состояния на грани со смертью для самого субъекта, непрерывного озлобления, а с другой стороны – жестокости врага, картину полного опустошения души.
Побыв долгое время в атмосфере, где ценность человеческой жизни сведена до минимума, где царит лишь убийство, человек морально опустошается, невольно приучается к мысли, что все позволено. Привыкнув жить в неестественно взвинченной обстановке, он теряет уже вкус и интерес к обыденной мирной жизни и не может уже найти в ней для себя целевых установок.
Это душевное состояние многих из молодежи после бывшей империалистической войны очень углубленно было в свое время передано Ремарком в его замечательном произведении «Возвращение».
Такому душевному состоянию не противоречит, однако, как показывает наблюдение, героика поведения на фронте, самоотверженность в бою, прекрасное отношение к ближайшим товарищам по служба – словом, вся романтика войны, в частности, фронта, его передовых позиций, скрывающие в таких случаях под внешней оболочкой, за своим фасадом, внутреннюю душевную опустошенность.
Такого рода душевное состояние, не дающееся классификации с точки зрения штампованных психиатрических определений, нуждается тем не менее больше всего во врачебной помощи со стороны убежденного, с глубоко продуманным мировоззрением психиатра.
Жизнь приучает нас верить лишь в естественное, возможное, правдоподобное. Выученные жизнью, мы и в искусстве ценим лишь все искреннее, правдивое, и отрицательно относимся ко всему ходульному, неестественному, неискреннему. Так все мы высоко ставим драму как серьезную и правдивую передачу жизни и отрицательно относимся к мелодраме, этой неправдоподобной форме воспроизведения жизни, неестественной, надуманной, с гиперболизмом страстей, напыщенностью речей, вычурностью поз.
В мелодраматизме, как и в пафосе, сказывается ложь, неправдоподобие, насильственное усиление страстей, искусственность этого построения, в силу сочетания событий, согласно готовой схеме, желательному для автора трафарету.
Необходимо признать, что иногда жизнь как-бы мелодраматизирует. В подавляющем большинстве случаев сочинительство (понимая этот термин как нечто, более или менее искусственное) пытается имитировать жизнь, иногда же бывает, что жизнь имитирует, казалось бы, мало правдоподобное, искусственно построенное сочинительство.
И подобно тому, как такие явления, как жеманство, манерничание, кокетство, казалось бы, совершенно искусственные, далекие от жизненной правды феномены, могут иногда обуславливаться грубо соматическими причинами – функциональными проявлениями подкоркового характера (например, манерность и жеманство при кататонической форме шизофрении), так и некоторые формы назидательных и моральных прописей, поучительные картины вульгарно представляемых угрызений совести с последующим воздаянием за зло и торжеством добра, могут осуществляться как вполне реальные, естественные жизненные явления.
Вообще многое из того, что мы в жизни считаем неестественным, представляется естественным, закономерным в каком-то ином плане, биологически обусловленным, часто вне воли и желания субъекта, идущим откуда-то из глубин древнейших и поэтому неосознаваемых (бессознательных) разделов нервно-психической жизни.
Таковы, как мы говорили, манерничание, гримасничание, дурашливость шизофреников-гебоидов, таковы нередко сентиментальность, кокетство, вычурные позы и прочее многих истеричек.
И если в поведении истерички мы часто не знаем, где кончается поза и начинается правда, то точно так же мы нередко не знаем и в подлинной реальной жизни, где кончается вымысел и начинается действительность.
Таким образом, в некоторых, – правда, немногих, – случаях как-бы теряется грань между драмой и мелодрамой, между действительностью и вымыслом, что не представляется тем более поучительным, так как заставляет быть особенно зорким и осмотрительным в повседневной психиатрической практике и не спешить с оценками, исходя из обычных трафаретных представлений о реальном и искусственном.
Каждый опытный психиатр может припомнить в этом отношении из своей практики соответствующие примеры – примеры мелодраматического построения или построения по схеме прописной морали подлинно жизненных явлений, нередко глубоко трагического характера.
Иногда жизнь предъявляет к врачу психиатру необычно новые, совершенно непредвиденные требования, к которым он был до этого совершенно неподготовлен. Не могу в этом отношении забыть случай, оставивший во мне навсегда тяжелые воспоминания.
Работая в клинике Бехтерева, я был как-то однажды вызван на дом в семью известного ленинградского инженера по следующему поводу:
Несколько часов перед этим в семье произошло редко встречающееся трагическое происшествие: единственный, горячо любимый семилетний ребенок, случайно или умышленно – это так и осталось для меня невыясненным, – покончил жизнь самоубийством, повесившись возле своей кроватки. Я застал мать в состоянии полнейшего отчаяния: она сидела в детской на полу, простоволосая, с безумными глазами, и перебирала оставшиеся детские платьица, игрушки своего несчастного ребенка. Когда я вошел, она не обратила на меня никакого внимания, как и не обращала внимания на окружающих. На многократно повторенные мною вопросы она неожиданно резко повернулась в мою сторону. «Зачем вы сюда явились? – спросила она. – Кто вы такой? Врач? Кому вы сейчас нужны? Зачем вы, чужой, посторонний человек, врываетесь в интимную жизнь, интимное горе совершенно чуждых вам людей? Что вы можете сделать? Ведь вы не вернете мне моего погибшего ребенка. Или вы пришли для того, чтобы говорить банальные, привычные в вашей профессии слова утешения, обычные успокоительные врачебные пошлости, которые вы стереотипно повторяете в сотни случаев, затем, чтобы выписать одно из ваших дурацких лекарств. Идите, получайте ваш гонорар за беспокойство и уходите отсюда подальше от чужого вам горя, которое вы, спокойный, уравновешенный человек, не можете сейчас понять».
Все мои попытки установить контакт с несчастной обезумевшей женщиной, все обычные в таких случаях указания на то, что помимо погибшего сына у нее еще остается любящий муж, родные, которые в полной мере разделяют ее горе, ни к чему не привели.
Мне оставалось только, уходя, предупредить окружающих о том, чтобы они самым тщательнейшим образом за ней следили, так как в состоянии такого отчаяния она легко может сделать попытку к суициду.
Позднее я узнал, что хотя родные и последовали моему совету, но все же не уследили – несчастная мать незаметно для всех достала хранившийся у нее морфий и в ту же ночь отравилась.
Уходя, я переживал очень тяжелое душевное состояние. Признаться, я проклинал себя, свою неумелость, ненаходчивость, проклинал свою профессию, которая толкнула меня на такую ситуацию, когда я оказался совершенно беспомощным.
Я думал: если бы эта женщина была религиозно-настроенным человеком и если бы я сам был бы человеком глубоко верующим, скажем, священником, то у нас, наверное, нашелся бы общий язык и я, быть может, мог бы спасти ее, уберечь от гибели.
Но зачем непременно религия, вера – продолжал я думать дальше, – достаточно было бы и того, если бы я был человеком с глубоко продуманным, активным, деятельным мировоззрением, я бы сумел подойти к ней и установить с ней контакт. Я вспоминал рассказы моих пациентов, побывавших в свое время у знаменитого основоположника рациональной психотерапии, бернского профессора Дюбуа, который на всех окружающих производил впечатление апостола глубиной и целостностью своих убеждений, активностью своего миросозерцания. Перебирая в уме все это и упрекая себя за проявленную мною несостоятельность, я, как школьник учителю, готов был смущенно сказать кому-то на этом экзамене жизни: «У нас в классе этого не проходили».
Все мы хотим непременно кого-то чему-то учить, тогда как нам самим нужно прежде всего непрерывно учиться у жизни, чтобы по возможности уменьшить те мучительные состояния мук совести, которые так глубоко и так предметно искренно переживал Бильрот, выразивший это в одном из своих интимных стихотворений:
Ich kann es nicht vertragen,
Wie mich die Menschen täglich stündlich quälen,
Wie sie ermögliches von mir begehren.
Was kann ich machen?
Ich armer Mensch?
Подводя итоги всему вышесказанному, мы не можем, как нам кажется, не признать, что моральный фактор играет в тех жизненных ситуациях, с которыми имеет дело психиатр, весьма значительную роль.
Кончая, мы возвращаемся к тому, с чего начали, с выдвинутой нами в качестве эпиграфа ко всей нашей работе фразе Руссо: «я ничего не полагаю, я только излагаю».
Мы тоже ничего не предлагаем, а лишь излагаем, то есть констатируем на ряде примеров факт несомненного значения в сфере наблюдений психиатра феноменов морального порядка.
Если же из этих фактов и могут вытекать какие-либо выводы, то эти выводы могут быть сведены, как нам кажется, к двум положениям:
Первое – психиатр не может замыкаться в рамки какого-либо одного понимания, одной формы подхода – чисто физиологического или чисто клинического. Те явления, с которыми имеет дело психиатр, включают в себя не только эти точки зрения, но и формы более общего понимания и более общих видов знания.
Второе – жизнь требует от психиатра более чем от представителя какой-либо иной профессии, глубоко продуманного широкого мировоззрения и уж конечно меньше всего готовых штампованных форм этого мировоззрения, усвоенных из общераспространенных книжек, а лично продуманных, лично пережитых и поэтому внутренне переработанных и усвоенных.