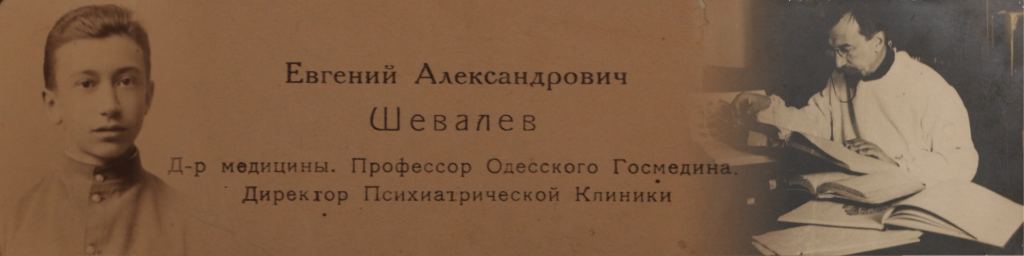Найбільш інтимний розділ «Мимолетных мыслей», який розкриває ставлення Євгена Шевальова до життя, людей, історії. Тут слід зауважити, що записки створювалися у роки війни та окупації, коли автор, вже літня і втомлена людина, переживав найбільш гостру ситуацію свого життя (відповідальність за пацієнтів та персонал лікарні) і загалом перебував під трагічним враженням від того, в яке варварство поринуло «цивілізоване людство», виховане, здавалось би, на найкращих взірцях літератури, філософії та мистецтва.
«Справжню» і «юну» особистість Євгена Шевальова краще репрезентує цикл «О ненужном», а також частини «Мимолетных мыслей», присвячені природі та мистецтву. Через них можна доторкнутися до того Шевальова, який любив ходити лісовими тропами та веслувати, радів посмішці дитини і легкості хмар, мав широке коло друзів, а в своїх стосунках з дружиною цінував еротизм. У 1940-і роки цей Шевальов поступається здивованому трагіку, який споглядає життя навколо як страшний сон.
Текст складається з 31 фрагмента. За тематикою їх можна охарактеризувати наступним чином:
I. Правда думки і правда життя;
ІІ. Дисгармонійність світу та гармонійність особи;
III. Індивідуальне – душа світу;
IV. Про невизначеність;
VI. Орнаментація життя;
VII. Про природу орнаментації;
VIII. Діловитість – це відкидання усього витонченого;
IX. Життя на людях;
XI. Плоть життя;
XII. Личини та лики людей;
XIII. Правда загального і окремого;
XIV. Про дріб’язковість життя і дрібниці життя;
XVI. Форми вульгарності;
XVII. Про жорстокість до тварин;
XVIII. Коні йдуть з історії;
XIX. Про прекрасне в житті;
XX. Фройд не винуватий;
XXI. Недовершеність в житті;
XXII. Еволюція трагічного;
XXIII. Про людське підпілля;
XXIV. Трагізм біологічний, соціальний, індивідуальний;
XXV. Вимирання сміху;
XXVI. Радість є соціальною, а горе – індивідуальним;
XXVII. Горе універсальне, радість – належить історії;
XXVIII. Про трагічну вульгарність;
XXIX. Про взаємодію культури та побуту;
XXX. Плинність культури: змінюються личини, лишаються лики;
XXXI. Три плани життя.
Деякі фрагменти «Жизни» мають паралелі в інших записках Євгена Шевальова – «Личное». Фрагементи ХХІІ-ХVII буквально або дещо іншими словами відтворюються у «Философии страдальческого опыта».
Текст відтворено у відповідності з оригіналом, зі збереженням авторської лексики та орфографії. Неідентифіковані або втрачені фрагменти позначені трикрапкою, реконструйовані – виділені квадратними дужками. Авторські виділення та посилання збережені. Більше про технічні та стилістичні особливості читайте у передмові до філософських статей Євгена Шевальова.

Євген Шевальов з дружиною серед друзів
Правда мысли и правда жизни (действия) – два разных ряда явлений.
Чаще всего встречается неправда в том и другом ряду.
Реже мы встречаем правдивость в мышлении и неправдивость в действиях (в жизни).
Наконец, отмечается иногда неправда в мышлении (например, при явлениях переоценки собственной личности, сверхкомпенсации), при правдивости в действиях.
Дисгармоничности мира (в смысле иррациональности его, так как все разумное – логическое и справедливое – есть высшая форма гармоничности) субъективно восполняется и преодолевается благодаря пластичности деятельности нервной системы – гармоничностью наших нервно-психических проявлений, нашими реакциями на окружающую нас реальность.
Это особенно сказывается на наиболее уравновешенных в нервно-психическом отношении людях, на здоровом оптимизме так называемых «солнечных натур», преодолевающих иррациональность мира не столь логически, сколько эмоционально.
Другая категория психически здоровых, следовательно, уравновешенных, гармонически реагирующих людей, поддерживает в себе эту психическую гармоничность путем непрерывной компенсации: подавляя в себе ряд комплексных и других реакций.
Если же эта дисгармоничность внешняго мира приходит в соприкосновение с психической дисгармоничностью самого субъекта (например, при психопатической структуре личности), тогда создается почва для разного рода срывов, неадэкватных или извращенных реакций на окружающее, длительных извращенных форм поведения и прочего.
Эти многообразные варианты паталогических реакций на жизнь сами по себе уже составляют значительную часть дисгармонии социальной.
Центр, вершина, кульминационный пункт жизни, восприятия ее – это индивидуальное, неповторимое.
Все повторимое снижает остроту переживаний.
Поэтому индивидуальное – это душа мира.
Неопределенные положения – это все в жизни.
Слишком большая определенность, как всякая статика, страшна.
Это, конечно, не значит, что срединность, бесцветность, бесхарактерность являются положительными жизненными факторами, они продолжают оставаться явлениями глубоко отрицательными, так как снижают жизненный тонус, вносят несоответствующую подлинной действительности унылую серость в жизнь, это значит, что в глубине, в самой сердцевине жизненных явлений скрыты бесконечные возможности, что и обуславливается незаконченностью, отсутствием окончательной определенности даже самых, казалось-бы, четких жизненных явлений.
В сущности вполне определенна только смерть, так как полностью уже исключает всякие возможности.
Смерть окончательна, она знаменует собой высший адинамизм, стабильность. В этом ее ужас и непонятность.
Все живое всегда находится в неопределенном состоянии в смысле таящихся в нем, еще не раскрытых и всегда заранее неразгаданных возможностей.
Мы часто говорим о реальности, не отдавая себе ясного отчета о том, что мы разумеем под этим словом.
Собственно говоря, настоящую реальность в ее чистом неизменном виде мы в жизни ощущаем очень мало.
Говоря так, мы совершенно не касаемся проблем гносеологических, а исходим лишь из данных психологического порядка, имея в виду только повседневный практический опыт.
Существует несколько основных процессов, присущих нашей психической деятельности, при посредстве которых мы воспринимаем окружающий нас мир [превращая] его из стихийного хаоса в упорядоченный космос.
Сюда относятся, прежде всего, процессы рационализации – осмышливания окружающего, установления определенных закономерностей в нем.
Рационализация жизни в значительной мере примиряет нас с нею, успокаивает, так как многое объясняет, создает почву для нашей власти над нею (установление закономерностей, предвидение и отсюда во многих случаях возможность целенаправленного вмешательства в нее.
Далее процессы стилизации – очищения, рафинирования всего [окружающего], выделения их отдельных явлений основного ведущего начала с игнорированием при этом всего остального (стилизация в силу аффективного нажима – Affektbetont), такова, например, последующая идеализация прошлого – своего детства, прошлых исторических эпох.
Идеализация (стилизация) как отсеивание, чистка, отбор лучшего, входит в состав многого из воспринимаемых нами в окружающем нас мире.
Она повышает значимость подвергающихся ее воздействию явлений, объектов, ситуаций.
Процессы орнаментации – приукрашивания жизни, вызываемые бессознательным желанием скрыть ее неприглядности и особенно желанием, порождаемым моментами социального общения – быть и казаться иным перед другими, во всяком случае, не тем, чем мы, например, являемся наедине с самим собой.
Это три основных процесса, преобразующие восприятие нами окружающей реальности.
То, что мы назвали бы «психологическим идеализмом» (идеализация прошлого, орнаментация, стилизация, рационализация, не-замечание и прочее) так же реально, как и «психологический материализм» (убежденность в непосредственно данном).
Иное дело идеологический идеализм и идеологический материализм, как формы общего мировоззрения, где все от начала до конца гипотетично, так как зависит от изначальной установки психики (от ее «аперцептивной массы»).
Необходимо признать, что стопроцентная реальность непереносима.
Отказаться от всего того, что мы назвали «психологическим идеализмом», равно как и от «психологического материализма», не представляется возможным.
Но если бы оно даже и было осуществимо, то не значило бы это в известной мере пройти мимо всей жизни, всего ее вкуса, запаха, всей гаммы ее красок, звуков, страдальческих переживаний с их выстраданным познанием, профильтрованным через теплоту человеческой личности, как единственной носительницы этого познания.
Всеобщность орнаментации, в большей или меньшей мере пронизывающей всю нашу жизнь хорошо определил Гейне в свойственной ему остроумной форме. «Ведь в сущности – пишет он, – все мы голыми ходим в наших платьях».
«Иметь здравый смысл – справедливо говорит Бергсон, – очень утомительно».
И только наедине с собой люди нередко сполна освобождаются от тирании [трезвомыслия], от тяготеющих над ними законов логики.
В своих воспоминаниях, объединенных под заглавием «Люди наедине сами с собой» Горький приводит ряд интересных наблюдений над тем, как человек ведет себя, оставшись в одиночестве. Так, Чехов, например, по наблюдениям Горького, однажды сидя у себя в саду и думая, что его никто не видит, ловил шляпой солнечный луч и пытался надеть его на голову вместе со шляпой. «Мне рассказывали – пишет далее Горький, – что кто-то однажды застал Лескова сидящим за столом, осторожно бросающим в фарфорную чашку кусочки ваты и прислушивающимся к тому, издаст ли вата звук при падении. Люди иногда наедине с собой смеются, плачут, громко высказывают отдельные бессвязные фразы и прочее в том же роде.
Крайней формой рационализации является сухое, совершенно оторванное от жизни доктринерство, крайней формой стилизации – мечтательность, фантазерство, крайней формой орнаментации – утрированный эстетизм, позерство.
Кроме этих процессов, как-бы дополнительного характера исключения – игнорирование, незамечание, вытеснение.
Конечно, нас, казалось-бы, больше всего должна интересовать подлинная реальность или, выражаясь языком Шпенглера, «картина мира, в котором живут, а не система мира, в котором умствуют», однако сам по себе голый, окружающий нас хаос вообще невыносим и мы поэтому спешим дополнить и исправить его всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами.
В некоторые исторические периоды, как например, в наше время, все, указанные защитные замещающие механизмы становятся очень поверхностными, непрочными и поэтому легко перестают оказывать свое действие.
Присматриваясь к окружающему, мы должны признать, что по существу мы живем в сфере почти сплошной орнаментации жизни, в большей или меньшей мере далекой от реальной правды ее.
Это тоже правда, только иная, преображенная.
И лишь в виде основного фона – заднего плана всего видимого – просвечивает в отдельные моменты, а иногда и заполняет собой целиком весь передний план проявление «голого» человека.
Орнаментация – в основе нечто биологически обусловленное. Корни ее устанавливаются уже в дарвинизме – в форме полового диморфизма (таковы, например, часто очень яркие и пестрые наряды самцов, приукрашивающих из перед самками.
Такая же стихийная орнаментация жизни чувствуется также в весеннем цветении растений, в их красоте, многоцветности, в их ароматах, выступающих в период оплодотворения.
Орнаментация уже ясно выступает во внешнем облике и в поведении первобытного человека, современного дикаря, на самых низших ступенях его культурного развития.
Орнаментация жизни, приукрашивание ее, входят как необходимое и неустранимое звено в понятие культуры.
Без орнаментации жизни, простейших форм этой орнаментации, – опрятности, мягкости, без пронизывающих все поры повседневного быта элементарных форм красоты, нельзя по-настоящему культурно жить.
Оголенная, лишенная орнаментации жизнь кажется унылой, непривлекательной, часто отпугивает, угнетает.
Орнаментация это та изначальная степень, которая чуточку подымает нас над серой обыденщиной.
Некоторые под словом жизнь понимают одну лишь орнаментацию ее, другие – одно лишь ее нутро (ее просвечивающей реальный фон), третьи, наиболее объективные, – повседневное сочетание «личин» с «ликами» (орнаментации с реальностью).
Дело, деловитость, которых больше всего требует от нас жизнь, это грубое отрицание (отбрасывание) всего утонченного – не только лишь того, что порождается рефлексией, но и всего, углубленно понимаемого и углубленно чувствуемого, как ненужного.
Это удары топора там, где по существу нужна тончайшая ювелирная работа, чтобы вскрыть детали, понять механизм.
Это яйцо, которое с размаху ставит на стол Колумб, чтобы придать ему стойкость, неподвижность вместо того, чтобы изощряться в поисках для него равновесия.
Достигая цели наискорейшим и наисовершеннейшим способом, по прямым путям, по путям своего рода «короткого замыкания» («курцшлюса»), деловитость, с одной стороны упрощая и облегчая, а с другой озабочивая, обрывает много лепестков у жизни, игнорирует краски, вкус и запах вещей, их неповторимую «самость».
Деловитость может порождать моменты величайшего удовлетворения (интеллектуального удовлетворения от творчества в области науки, искусства, морального удовлетворения в области практически-полезной деятельности.
Но с другой стороны деловитость, в силу своего выборочного, избирательного характера, не создает условий для всестороннаго, целостного восприятия окружающего, для возможного всеохвата этого окружающего.
Все это обычно осуществляется и дополняется уже за пределами деловитости.
Наивысшая форма деловитости – научная, общественная, в меньшей мере деловитость в области искусства, посколько искусство по природе шире, – выигрывая в глубине, теряет во всеохвате.
Примером может служить герой Чеховской «Скучной истории», углубленный ученый, страстно преданный науке, не успевший и не сумевший за недосугом создать себе определенное общее мировоззрение, [пережить и воспринять] его, а поэтому беспомощно теряющийся перед жизнью, перед ее трудностями.
Чем больше живешь на людях, тем больше чувствуешь, как пустынна жизнь. Ибо в конце концов касаешься большинства людей своей периферией. Я думаю, что многие большие общественники, если они только имеют внутренную жизнь, должны чувствовать эту пустынность жизни. Со стороны кажется, что человек растрачивает на людях свою душу, а она, между тем, у него часто тускнеет, увядает или мумифицируется от неизрасходованности, так как акцент всего внимания и всей энергии направлен на периферические отрезки психики.
Тут как-бы осуществляется закон обратной пропорциональности: чем больше касания, тем периферичнее эти касания.
И если в отношении к одному-двум особенно близким к вам лицам у вас часто имеется максимальный контакт, то по отношению ко всем остальным вы полуконтактны, четверть-контактны, одну тысячную долю контактны.
Это ощущение пустынности жизни, мирового одиночества каждого из нас, хорошо выразил Толстой. «Мне нужно самому одному жить, – говорит он, – самому одному умереть».
Багрицкий в одном из своих стихотворений хорошо уловил и передал основную тенденцию «биоса», так напряженно и упорно отстаивающего свои права. Описывая весну, он говорит: «и вот из корней, из расселин пошла в наступленье свирепая зелень».
В этой творческой напряженности, «свирепом» упорстве жизни, как относительно очень малой части всего бытия перед лицом универсального всепоглощающего мертвого космоса (хаоса), лежат главнейшие, изначальные основания для всех оптимистических построений, для всех «вер».
Плоть жизни – это тоже не есть нечто, совершенно плотское, ибо совершенно плотское, как и всякая стопроцентная реальность, пугает и отталкивает. Здесь всегда есть хоть чуточку отлета от реальности.
Это преобразованная, рафинированная и обобщенная плоть, это воздух, вода, цветы, тело, начиная от Рубенсовского, самого, казалось бы, нейтрального и нематериального, и кончая на противоположном полюсе всем Рафаэлевским, Боттичелевским, Нестеровским – наиболее обесплоченной плотью Богоматери, Христа.
Есть личины и есть лики. Жизнь полна по преймуществу лишь внешними формами поведения человека, за которыми скрывается подлинное лицо его интимнейших мыслей и переживаний.
Можно также считать, что все окружающая реальность есть лишь личина, видимый образ явления, за которым таится их настоящее содержание, подлинный лик мироздания.
Точно так же и в изображении жизни есть две правды. Правда буквального воспроизведения жизни – фотографии, муляжи, восковые фигуры, – и правда искусства. Родэн называет эту вторую правду внутренней правдой. «Искусство – говорит он, – начинается лишь там, где есть внутренняя правда».
Внутренняя правда – это уже первый значительный отлет от реального. Отлет принципиальный.
«Искусство – говорит Ницше, – дано нам для того, чтобы мы не погибли от правды».
Произведения искусства должны не только воспроизводить жизнь, они должны ее дополнять, видоизменять.
«Художник – говорит Родэн, – постигает всю правду, а не только ту, которая дается глазу».
Это не орнаментация, это видение внутренней правды вещей и преображение ее. Важна не реальность сама по себе, как в искусстве, так и в жизни, а смысл реального, душа реального.
Это тоже относится к проблеме – личины-лики.
Интуиция – способность видеть нечто «позади вещей», проникать за передний план жизни – может сказываться во всех видах познания окружающего нас мира, начиная от обыденных, повседневных и кончая высшими творческими.
Эта способность различать за «личинами» «лики» иногда особенно бросается в глаза в некоторых высших творческих проявлениях – в искусстве, в философии, в религии, в науке, а также в явлениях профетизма (Достоевский, Владимир Соловьев, Блок, на Западе – Шпенглер).
В жизни всегда существуют две правды – правда общего и правда частного, правда большая и правда малая.
Часто одна из них покрывает другую сполна, без остатка, настолько, что делает ее незаметной для окружающих, иногда же они обе сосуществуют одновременно, сохраняя при этом свою одинаковую значимость в виде определенного единства – порой однородного, порой же разнородного, прямо противоположного (единство противоположностей).
В некоторых случаях, однако, этот дуализм лишь кажущийся, так как сквозь «малую» правду просвечивает все та же «большая» правда, лишь передаваемая иными словами, в иной форме, в иных выражениях.
Существуют два, внешне как-будто схожие, а по существу диаметрально полярные друг другу явления – это мелочи жизни как форма поведения, с одной стороны, и внимание к мелочам жизни – с другой.
Мелочность жизни определяет и мелочную форму отношения к ней, в то время как внимание к мелочам жизни может совмещаться с самым широким мировоззрением и чаще всего именно сочетается с ним.
Первое – мелочность жизни, – есть наихудшая форма узости, мещанства духа, форма жалкого крохоборства, ползучее существование в сфере бесконечно мелких никчемных пустяков, отбросов жизни.
Второе – внимание к мелочам жизни – есть высшее проявление чуткого отношения к ней во всем ее разнообразии, во всех мельчайших нюансах, внимание ко всем крупицам познавательного, морального, эстетического, практического и прочего характера.
Только при наличии этого внимания к мелочам жизни возможна подлинная полнота переживаний.
Близость к жизни, практическая жизненная полезность, и близость к реальности – это не одно и то же.
Математика – жизненно наиболее полезная форма знания в виду ее практического приложения на каждом шагу в процессе нашей деятельности, является в то же время наиболее далекой от подлинной реальности, так как совершенно отрывается от нее, обходе все конкретные предметы и конкретные явления в их подлинном своеобразии и неповторимости (самости), и их неотделимости от целого, слиянности с окружающим, непрерывной длительности (la dure Бергсона), создавая лишь одни обособленности, точки, мертвые узлы, преформатированные условности, окаменелые трафареты, накладываемые на реальность.
Существуют разные формы пошлости. Есть пошлость как-бы внешняя, поверхностная, не затрагивающая или мало затрагивающая само существо человека (существо это может оставаться сосредоточенным и серьезным).
Это как-бы наружная, «накожная» пошлость, пошлость поведения или отдельных поведенческих актов.
И есть пошлость внутренняя, сердцевинная (конституциональная), как постоянный фон, а не как отдельные «фигуры» или отдельные процессы (переживания) на этом фоне.
Сердцевинная пошлость как строй души.
Отсюда – сердцевинно-пошлые люди.
Как ужаснется человечество, когда в один прекрасный день оно изобретет способ проникать в субъективный мир животных и когда оно увидит, как беспощадно жестоко оно было к этим животным на протяжении целых тысячелетий!
Говорят, что по отношения к животным единственный научный метод изучения их психической жизни является метод объективных наблюдений и экспериментов, а он не дает возможности судить о субъективных переживаниях животного.
Но пока что жить-то приходится не одной только наукой. Хочешь-не хочешь, надо хотя бы только для себя самого ВСЕ ОСОЗНАТЬ И ВСЕ ОБЪЯСНИТЬ.
На наших глазах происходит большое историческое явление, к сожалению, никем до сих пор еще не отмеченное.
С исторической сцены уходит лошадь после того, как она тысячелетия играла на этой сцене выдающуюся роль.
Лошадь уходит с улиц больших городов, становится менее заметной в деревнях и селах.
На наших глазах за относительно короткий период времени исчезают существовавшие сотни лет кареты, экипажи, пролетки, кабриолеты, кабы, линейки, дилижансы, постепенно исчезают извозчики, дрожки. Не видно деловых способов сообщения верхом, не видно больше верховых прогулок.
Так незаметно, тихо и покорно почти совсем ушло с мировой сцены это удивительно умное, кроткое и прекрасное животное, оказавшее столько услуг человечеству на протяжении целых тысячелетий, без того, чтобы хоть кто-нибудь вспомнил об этом и помянул благодарностью существовавшую рядом с нами кроткую и покорную жизнь, согревавшую нас своим присутствием, сыгравшую такую великую роль в истории культуры и способствовавшую нашему подъему на более высокий уровень культурного развития.
Если Патер, этот величайший анималист среди голландских художников, дал нам возможность почувствовать вековую мудрость, светящуюся в спокойно-кротких глазах и во всем об лике коров на фоне окружающей их природы, то в не меньшей мере эта вековая мудрость и покорность судьбе выступает иногда в кротких глазах труженицы – лошади.
Невольно вспоминаются слова Уитмена: «Быки, когда вы дремлете в лиственной тени, что выражается в ваших глазах? Мне кажется, больше, чем то, что за всю мою жизнь мне случалось читать в печати».
И далее: «И когда на меня смотрит гнедая кобыла, мне становится стыдно своей глупости».
Кроткое, прекрасное, трогательное, милое лишь отдельными блестками, иногда даже мимолетными искорками просвечивает сквозь то сплошное, суровое, грубо-безжалостное, бессмысленно жестокое или тупо-безразличное, что именуется жизнью.
Фрейд не виноват в том, что сексуальность в современной жизни так мелочна и порочна.
Сексуальность должна быть поднята до высоты ее космической значимости. «Таинство жизни свершается и мир как храм» (Брюсов) – такова должна быть конечная формула сексуальности в ее наиболее преображенном виде.
Недовершенность в окружающем мире. Жизнь заквашена в значительно большей мере на недовершенных структурах, нежели на структурах законченных, стабилизированных.
В окружающей жизни, если внимательно в нее всмотреться, неизмеримо больше ненасыщенных, зияющих структур, нежели структур насыщенных или близких к насыщению.
Многие законченные образования, которые, казалось, можно было бы обойти со всех сторон рукой, представляются по существу недовершенными. Таковы незавершенные структуры… органов, непродуманные до конца мысли, ненасыщенные чувства, неисчерпанные возможности.
Каждый человек дает жизни значительно меньше того, что мог бы в действительности дать. Это особенно бросается в глаза на примере большинства выдающихся людей. Но и по отношению к среднему человеку это становится особенно заметным, когда человек умрет.
Все мы в конечном итоге умираем, не дав жизни того, что могли бы дать, а с другой стороны, не взяв от нее того, что могли бы взять, не насытившись жизнью в той мере, в какой могли бы насытиться.
Такие лица, как Гете и Толстой представляют собой очень редкое и счастливое исключение в том смысле, что они как-будто бы максимально дали жизни и максимально взяли от нее. Однако и в этих редких случаях такие явления, как последний уход Толстого служат лучшей иллюстрацией острой духовной ненасыщенности, неутолимой жажды запредельности, явившимися окончательным итогом всей жизни Толстого.
По-настоящему «ныне отпущаеми» могут сказать очень и очень немногие, чаще же всего это «ныне отпущаеми» представляет собой не итог насыщения жизнью, а результат общей жизненной усталости (усталости от ненасыщения) или результат возрастного оскудения желаний, старческого затухания эмоциональности.
Жизнь больше проявляется в намеках, предчувствиях, интуициях, угадываниях, чем в четких формах знания.
Недовершенность особенно чувствуется в области искусства, в значительно большей мере, чем в сфере науки. Эту незавершенность особенно тонко описал Толстой, определяя впечатление, получающееся при восприятии художественного произведения, когда «чувствуется, что еще немножко и будет полно».
Из различных видов искусства наиболее завершенным представляется архитектура. Классические памятники архитектуры оставляют наиболее полное и целостное впечатление законченных внутри самих себя структур. Некоторые художественные произведения представляются законченными даже в своей недовершенности (Венера Милосская, Парфенон).
Эволюция трагического
Ницше говорит о возрастающей серьезности мира.
Эта серьезность связана не только с увеличением и осложнением нашего знания, но и с нарастающей озабоченностью, деловитостью, суетностью, с новой динамикой, новыми темпами «делания».
Где уж тут до созерцательной стороны жизни, до милых радостей, наивных крупиц бытия, до искренняго смеха, хорошего легкомыслия!
Вместе с нарастающей серьезностью жизни нарастает и трагическое.
Оно становится глубже, страшнее, безысходнее по мере роста нашего понимания, обострения восприимчивости, сенситивности, по мере все большего углубления пропасти (наростающего контраста между желаемым и реальным, мыслимым и осуществляющимся в жизни, уже достигнутым и, казалось, окончательно превзойденным, между усложненными моральными требованиями и распоясыванием человеческого подполья, выявлением чудовищных бездн глубинной личности и психологии масс.
Вот почему трагизм греческих трагедий кажется сейчас примитивным, топорным, можно сказать даже наивным, по сравнению, например, с современными ужасами войн культурных народов.
По существу нарастающая серьезность мира должна была бы быть выражением зрелости человеческой культуры, которая не может и не хочет забыть прошлое, которая стремится всецело учесть это прошлое.
К сожалению, такого рода серьезности в мире пока еще нет.
Немецкий ученый Крауз выдвигает понятие о Tiefenperson – «глубинной личности» как филогенетически наиболее древнем комплексе примитивных инстинктивно-рефлекторных проявлений – архаической эмоциональности.
По существу то же самое имел в виду и Достоевский, говоря о «подпольном человеке», о «человеческом подполье».
Происходящая на протяжении всего периода истории человечества эволюция заключается, конечно, не в том, как думают некоторые, что с годами, с тысячелетиями, смягчается это подполье, корегируясь воздействиями со стороны более высших разделов психики (наивное представление людей, верящих в так называемый «социальный прогресс»), а в том, что на наших глазах (на протяжении даже короткого периода жизни каждого из нас, пожилых людей) это подполье, нисколько не изменяясь в своей основе, лишь внешне маскируясь, все более оснащается высшими достижениями человеческого творчества, избирая все, для него созвучное из области этих высших психических достижений, обогащается всем тем, что может быть использовано ему на потребу.
Только в этом «оснащении подполья», во все большем спаянии «Чингис-Ханов с телеграфами», заключается главная черта видимого социального прогресса, что особенно демонстративно сказывается в происходящим на наших глазах чрезвычайно быстром «прогрессе войны» – не только в смысле ее техники, но и в смысле ее методов – экстензии и многообразия этих методов, их роста в ширину и в глубину.
Я не знаю, занимался ли кто-нибудь анализом трагического в жизни. Необходимо, как мне кажется, различать три основных вида трагического:
Трагизм биологический – аморальность и жестокость борьбы за существование как основного биологического закона жизни, проблема болезни, страдания, проблема смерти.
Трагизм социальный, порождаемый непорядками социального устроения, социальной несправедливости, гнета – социальная борьба, революция, нищета, безработица, голод. Отрицательные особенности человеческих взаимоотношений, порожденные отрицательными особенностями человеческой психики на сегодняшний день.
Трагизм индивидуальный, порождаемый сознанием бессилия своей мысли, своей воли, невыполнимостью своих желаний, сознанием своей жизненной слабости, малоценности как источника хотений, интеллектуальных и эмоциональных дерзаний. Есть формы трагического, выходящие за пределы этих трех разделов. Такова, например, проблема случайного, стихийного, рокового.
Из всех этих видов трагического наиболее детерминирован, четко и нерушимо предопределен трагизм биологический, в то время как в области трагизма социального и индивидуального чувствуется, что возможны сдвиги, смягчения, быть может даже в некоторых случаях полное устранение этого трагического.
И все-таки, несмотря на, казалось-бы, коренное различие между этими тремя разновидностями трагического, трагизм социальный представляется в конечном итоге наиболее упорным, наиболее косным.
В борьбе с болезнью и страданием, в борьбе со старостью, наука уже много сделала и несомненно в будущем сделает еще больше. Тут чувствуется определенный прогресс, так как это касается технических форм, в то время как в области людских взаимоотношений, в сфере моральных форм – осуществляется все та же повторяемость на протяжении всей истории человечества одних и тех же проявлений, типичных для психологии среднего человека.
Вот почему для устранения явлений социального трагизма требуется прежде всего коренное преобразование самого человека как носителя определенных, свойственных ему черт и особенностей.
С годами под влиянием всего пережитого, перевиденного и передуманного, я начинаю в большей мере верить в человека, как формацию биологическую, нежели как в существо социальное. Для устранения дефектов первого имеется больше перспектив, заложено больше возможностей, нежели в устранении дефектов [второго].
XXV.
Вымирание смеха.
На наших глазах происходит все большее и большее вымирание смешного, веселого в широком социальном масштабе.
У детей нет прежнего обилия и многообразия игрушек, почти нет новых сказок. Нет [традиционных] балаганов, Петрушек, уличных шарманщиков, певцов, жонглеров, акробатов. Нет хороводов, ряженных, смешных масок… нет фарсов, водевилей, буффонад. Исчезают игры вроде горелок, жмурок и прочего. Нет модных уличных песенок, куплетов, высирает веселый анекдот, каламбур.
Исчезает не политическая и социально направленная карикатура, например, изящная и остроумная в стиле Caran d’Ach или наивно-грубая, гротескная и в то же время чрезвычайно смешная в стиле Буша или каррикатуры типа Fliegende Blätter.
Фокусничество, этот забавный, интересный, остроумный, ловкий, подчас весьма изящный вид искусства, почти исчезло из жизни за последние несколько десятков лет.
Вымирают интимно-веселые кафе, кабаре.
Давно как нет бродячих вожаков с медведями, бродячих… с смешными обезьянками, смешными дрессированными ряженными животными (последний остаток их – животные Дурова), гадалок и гадальщиков с учеными попугаями, вытаскивающими билетики, в которых предсказывается судьба и прочее в том же роде.
Затихает танец, принимая взамен жизнерадостной подвижности все более моторно-вялый, все более сексуально насыщенный характер моторики (фокстрот).
Постепенно исчезают из быта веселые народные танцы (гопак, камаринская, казачок).
Это не только изменение быта, не только исчезновение некоторых бытовых форм, но и подлинное умирание веселого, смешного, радостного, так как все эти бытовые формы смешного ничем не компенсируются, не замещаются, никакими равноценными им образованиями, суррогатами исчезнувшего.
Одно кино в плане проявлений смешного, как новое… явление, при всей мощности своего социального воздействия, не может, однако, заместить собой все эти многообразные формы…
Искусство в широком масштабе все больше исчезает из быта не только у нас, но и, по всей видимости, и на Западе.
В связи с этим все меньше остается в жизни радостного, веселого, все становится безнадежно серым, тусклым, малоинтересным.
Смех остается и, конечно, всегда будет оставаться в полной мере у детей и подростков, как выражение радостного восприятия мира, но у современного взрослого человека – главного хозяина жизни, – он на наших глазах все более блекнет и затухает, иначе нельзя понять эту легкость, с которой уходят из жизни и забываются исторически сложившиеся формы забавного, веселого, радостного, и ту скудость творчества, которая проявляется сейчас в создании новых форм смешного.
Современное смешное, чаще всего лишенное легкости, простодушия, непосредственности, но за то большей частью густо насыщенное гражданской направленностью, уже мало смешит.
Может быть отчасти потому, что под влиянием всего пережитого и переживаемого мы уже в известной мере отучились смеяться.
Можно подумать, что «дух тяжести» точно каким-то траурным пеплом посыпал современное человечество.
Как-будто растворенная в мире, если так можно выразиться, энергия смешного на наших глазах в очень короткий срок на протяжении одного, двух поколений бесследно таем, улетучивается в пространство.
Обозревая французскую новеллу за XIX век, Анатоль Франс отмечает, что ни один рассказ, ни одна новелла не отличается, по его мнению, веселостью. «Французская революция – говорит он, – гильотинировала легкое изящество и придала осуждению беззаботную улыбку. Литература не смеется уже почти столетие».
То же в еще более резкой форме чувствуется и в наше время.
В итоге получается странное явление: вещей, которые могли бы увеличить общую сумму радости в жизни, значительно больше, чем когда-либо раньше, а между тем радости в жизни заметно меньше.
Мир от этого становится суше, тускнее, деловитее, но не серьезнее.
Очень интересна проблема разной роли, разного удельного веса в жизни, с одной стороны, всего веселого, радостного, с другой – печального. Радость социальна, она осуществляется главным образом на людях, в социальном окружении.
Горе в большей мере индивидуально, возможно в одиночестве, оно чаще всего и осуществляется [именно] в одиночестве.
Все печальное (горе, страдание, боль) чаще всего массивно, нередко включает в себя элементы непосильной тяжести, легко порождая новые комплексы или оживляя старые.
Все радостное чаще легковесно, как бы окрыляет своей легкостью. Печальное чаще длительно, косно, стойко, нередко может запаздывать, оно стереотипно по своему содержанию, тогда как все радостное (особенно смешное, веселое) быстротечно, своевременно, и по своему содержанию значительно более разнообразно, многогранно.
Радость максимально приближает нас к жизни в смысле усиления влечения к ней, горе максимально отталкивает нас от нее, снижает это влечение.
Радость больше, чем какое-либо иное переживание, облегчает жизнь, снимая накопившиеся комплексы, смешное часто освобождает, так как снимает власть над нами многих авторитетов, подавляюще действующих на всю нашу психическую жизнь и приглушающих нередко наше сознание.
Все печальное (горе, страдание) и все радостное (а также смешное), больше всего запоминается в жизни.
Жизнь больше всего определяется и, можно сказать, расцвечивается этими крайностями.
Прав Владимир Соловьев, когда говорит в одном из своих стихотворений:
«Таков закон: все лучшее в тумане,
А ясное иль больно, иль смешно.
Не миновать нам двойственной сей грани:
Из смеха звонкого и из глухих рыданий
Созвучие вселенной создано».
Отсюда он делает заключение:
«Звучи же смех, свободною волною
И хоть на миг рыданья заглуши,
И злую жизнь насмешкою незлою
На миг обезоружь и укроти».
«Человек – говорит Ницше, – страдает так глубоко, что принужден был изобрести смех. Самое несчастное и самое меланхоличное животное – по справедливости и самое веселое».
Радость в большей мере, чем горе, контрастное понятие.
Горе чаще всего ощущается непосредственно, как таковое, тогда как радость нередко является лишь отсутствием горя.
Радость такая же прослойка в жизни, как сознание, в общей сумме наших психических проявлений, пожалуй, еще меньшее по своим размерам явление.
А между тем, без радости нет жизни – это основной фон ее, то, что приковывает нас к жизни.
Существуют разные градации радости, начиная от космической радости перед мирозданием или тихого удовольствия от созерцания, кончая на противоположном полюсе утробной физиологической радостью или смешанным аффектом (злорадством).
Горе вызывает в большей мере сопереживания (страдание). Отсюда возникновение морали. Сострадание как основа морали, согласно учению Шопенгауэра.
Сорадость в моральном смысле занимает относительно малое место.
С годами сфера сострадания увеличивается (расширяется, углубляется), тогда как сфера сорадости остается неизменной, либо с годами уменьшается.
Смешное исторично-избирательно, оно значительно изменяется на протяжении истории.
Горе часто бывает аисторично, универсально.
Печальное исторически мало эволюционирует – каково оно было в древние времена, таким-же или почти таким-же оно осталось и у нас, в то время как радостное, и особенно смешное, в значительной мере меняется в разные эпохи, среди разных народов, разных общественных классов, вкусов, настроений и прочего.
С годами, с разными историческими периодами, смешное изменяется, но не эволюционирует, то есть не изменяется в смысле постепенного роста вверх или вниз (не усложняясь и не упрощаясь), а просто изменяется точка зрения на смешное.
Таково, например, изысканно смешное XVIII столетия, которое сейчас уже не кажется смешным.
Даже многое в классической литературе, казалось бы, наиболее прочное, постоянное, теперь уже кажется значительно менее смешным, нежели оно представлялось современникам.
Так, многое в комедиях Аристофана, Шекспира, в «Дон-Кихоте», у Рабле, утратило для нас характер смешного.
Юмор Гоголя иной, чем Чехова, чем Ильфа и Петрова. С другой стороны, гротескный юмор американцев нам сейчас кажется мало смешным.
Наряду с этим существуют, однако, и универсальные формы смешного.
Так, можно часами радоваться, а иногда и искренне, от души смеяться, глядя на игры и проказы детей, мелких животных или стоя в зверинце перед клеткой с мелкими обезьянами – мартышками.
Универсальность горя и вообще всего печального, одородность, сверхиндивидуальность его, отмечается на всем пути человеческой истории. Так все печальное в Библии, все страдальческие переживания в древнегреческих трагедиях нам кажутся в равной мере горестными, печальными и сейчас.
Таковы также некоторые универсальные формы радостно-космического восприятия мира. Например, некоторые из Псалмов Давида, Песнь Песней, гимн фараона Эхнатона и многие другие образуют проявление космического сознания.
Радость может в некоторых случаях сочетаться с отрицательными явлениями (например, зло-радость).
Можно говорить о просветляющем действии высших форм радости, об умудряющем действии некоторых форм горя (однако при длительности этого горя – об отуляющем, ослабоумивающем его влиянии).
На высших ступенях познания, высших просветленных переживаний, осуществляется примирение этих двух взаимопротивоположных начал.
Стремление к этой форме высшего синтеза, максимального всеохвата, остро чувствовал Блок:
«Солнцу закон неприложный
Радость-Страданье – одно».
Очень интересна в этом отношении мысль Айседоры Дункан, глубоко ею выстраданная в процессе трагического опыта ее личной жизни, об однообразии человеческих выражений, в частности, внезнапного крика как в моменты величайшего счастья, так и в моменты величайшего страдания. «Только два раза – говорит Дункан, – раздается один и тот же крик матери, который она слышит как будто со стороны – при рождении и при смерти ребенка.
Почему один и тот же – спрашивает она далее, – один раз крик высшей Радости, другой – Печали? Может быть, во всей Вселенной существует всего один Вопль, Вопль Печали, Радости, Упоения, Страдания, Вопль Космоса?
Единство Радости-Страдания, целостность их, знаменует собой преодоление основных антиномичностей завершенного духовного озарения.
Стремление к высшим формам радости является основным, ведущим и началом всей нашей сознательной психической жизни.
Мы различаем просто пошлость и трагическую пошлость. Трагическая пошлость – это балаган во время чумы, похабный анекдот перед смертью, вагон из-под устриц, в котором было доставлено тело умершего Чехова.
Очень интересна проблема взаимоотношения между культурой и бытом. Об этом как-то мало говорят и мало пишут, а между тем, психологу и социологу здесь есть над чем поработать.
Врастание культуры в быт идет непрерывным путем, однако не путем механического вытеснения разного рода бытовых форм, в результате чего должно получиться какое-то пустое место, и не путем простого замещения устарелого бытового новым, современным, а при посредстве целого ряда часто весьма сложных, переходных состояний.
Быт это тоже форма культуры, однако, осевшая в ряде своих проявлений за много столетий раньше и очень медленно, капля за каплей, изменяющаяся под влиянием новых волн, идущих со стороны верхних слоев.
Это своего рода культурное подполье, неправомерное в отдельных своих компонентах: в некоторых своих частях очень стойкое, косное, в других более подвижное.
Новые культурные волны – сознательные, целенаправленные формы поведения – воздействуя и на низший бытовой слой, своеобразно преломляются в нем.
Если всмотреться внимательно, то можно заметить, что многого они не упраздняют, а лишь видоизменяют, часто создавая как-бы компромиссные формы, от некоторого же оставляют простую словесную шелуху – индифферентные, атавистические феномены, продолжающие жить в нашем быту по примеру утративших уже всякое значение деталей нашего костюма: лацканов и отворотов наших пиджаков, пуговиц и обшлагов на рукавах и прочем в том же роде, имевшем некогда определенный смысл.
Эта многослойность быта построена не на логической увязке между собой отдельных бытовых слоев, а лишь путем их простого сосуществования.
В этом иррациональность всего бытового и в этом его громадное, во многих случаях доминирующее значение в социальной жизни.
Шпенглер говорит о провинциализме мировой культуры и о связанным с ним провинциализме культурных ценностей. «Придет день, – говорит он, – когда прекратится существование последнего портрета Рембрандта и последнего такта моцартовской музыки, хотя, пожалуй, и будет еще существовать закрашенное полотно и нотный лист, так как не будет уже ни глаза, ни уха, которым был бы доступен язык форм. Гибнет всякая мысль, всякий догмат, всякая наука, когда угасают души и умы, в мирах которых их «вечные истины» с необходимостью переживались, как нечто непреложное. Преходящи даже и звездные миры, которые созерцали астрономы с Нила и Евфрата, потому что наша – столь же преходящая – видимая глазом западного человека, возникшая из его чувств система мира, установленная Коперником, есть нечто совершенно от них отличное».
«До сих пор – говорит далее Шпенглер, – никто не решился признать, что считавшееся само собой понятным постоянство духовных форм есть только иллюзия и что в течение известной нам истории стиль познания изменялся несколько раз. Трудно даже себе представить, – говорит он далее, – сколько великих концепций чуждых культур погибло по нашей вине, так как мы, исходя из нашего способа мышления и заключенные в его границы, не могли их усвоить или, что то же, считали из ложными, излишними и бессмысленными.
Это, однако, не аннулирует все то стержневое – «человеческое, слишком человеческое» – что проходит сквозь бесконечно пестрый поток меняющихся форм. Изменяются «личины», остаются «лики». Нужно научиться их распознавать и угадывать.
Существует как бы три основных плана жизни, в пределах которых мы все непрерывно вращаемся.
Таков, прежде всего, мир повседневной реальности, практически наиближайших к нам вещей и явлений, мир сплошных оголенностей жизни.
Некоторая категория людей так всю жизнь и не выходит за границы этого плана.
Далее отмечается значительно более глубокий мир – суровый мир четких и ясных понятий, железных законов реальности, мир науки, техники, сурового долга и непрерывного труда.
И, наконец, в совершенно ином плане мир отлетов от реальности, как-бы воздыханий вещей и явлений (мистики вещей), мир ненужностей жизни, ее «черемухи».
Этот мир больше всего не переносит грубых касаний, небрежного к себе отношения, так как при нечутком к нему подходе легко вульгаризируется, превращаясь либо в примитивный сентиментализм, либо в более или менее грубое суеверие.
Переплетаясь, эти три плана часто мешают друг другу, то увлекая нас за пределы вещей в бескрайние просторы неясных томлений и углубленных интуиций, то грубо отрезвляя жестокостью и примитивизмом повседневности, то сдерживая и умиротворяя наш дух суровыми законами навязываемой нам извне реальности, увлекая стройностью и глубиной этих закономерностей.
Каждый индивидуум представляет собой форму относительного равновесия этих трех планов и вместе с тем почти в каждом индивидууме складывается в той или иной мере перегиб в сторону одного из этих основных планов, его доминирующая роль.