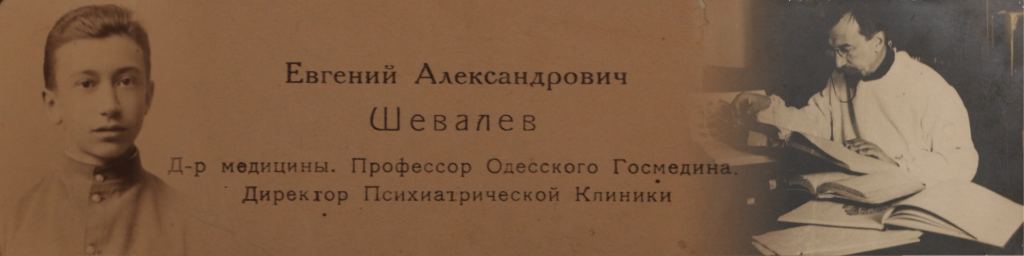Остання і, мабуть, найбільш песимістична частина філософських записок Євгена Шевальова. В інших розділах можна відчути розчарування, стурбованість або трагізм автора. Тут же він постає як роздратований – і разом з тим безпорадний. Шевальов відмежовується від сучасності, знецінює її, кидає натяки на адресу невідомих явищ, обставин, людей.
І це не просто втома від пережитого. Світ об’єктивний, який Шевальов узагальнює під туманними визначеннями «русского трагизма», «человеческого подполья», «мирового зла», виявився цілковитою протилежністю світу суб’єктивному, з його благородними ідеалами, витонченими пошуками, масштабними постатями вчених та творців.
«Середня людина» взяла на озброєння досягнення науки і техніки, підняла гасла провідних філософів та гуманістів, щоб перетворити на суцільний жах життя кількох поколінь. І особливо гостро ця підміна цивілізації варварством відчувалася на теренах СРСР. Настрій записок Євгена Шевальова – це настрій професора психіатрії, який в кінці свого насиченого життя зрозумів, що годі лікувати навіть здорових.
Розділ складається з 29 текстових блоків. Їх зміст можна охарактеризувати наступним чином:
ІІ. Унікальність життєвого досвіду сучасників;
III. Життя кричить про себе, як ніколи не кричало;
V. Про канарейок;
VI. Жах інтелігентських напівфабрикатів;
VII. Відмахнутися від сучасності;
VIII. Комуналки та черги як дзеркало суспільства;
IX. Про старих і нових ідолів;
XI. Прогресу в людській історії надто мало;
XII. Про лімітованість розуміння;
XIII. Тест на грубість звичаїв;
XIV. Зростаюча неповага до життя;
XV. Голість цивілізації;
XVI. Про мудрість «від зворотнього»;
XVII. Зникла розумова свіжість;
XVIII. Про інверсію смислів;
XIX. Про соціальні вихори та хвилі;
XXI. Про Чингізханів з телеграфами;
XXII. Про вихід за межі «не треба»;
XXIII. Про наївну задоволеність;
XXIV. Зменшення потреби у спогляданні;
XXV. Життя можна відчути тільки без поспіху;
XXVI. Про проживання епохи і його наслідки;
XXVII. Відчуття історичної безвиході;
XXVIII. Чи зрозуміє хто наше покоління?
XXIX. Відповідальність перед сучасністю;
ХХХ. Про російський трагізм.
Текст відтворено у відповідності з оригіналом, зі збереженням авторської лексики та орфографії. Неідентифіковані або втрачені фрагменти позначені трикрапкою, реконструйовані – виділені квадратними дужками. Авторські виділення та посилання збережені. Більше про технічні та стилістичні особливості читайте у передмові до філософських статей Євгена Шевальова.
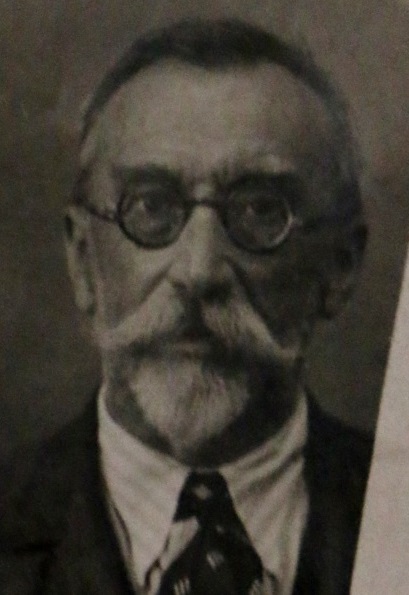
Євген Шевальов в останні роки життя
Существуют поколения, на долю которых выпадает исторически совершенно особый опыт и особые формы переживания. Таково наше поколение.
Пусть случится сейчас большое небывалое счастье, пусть наступит внезапное спокойствие – тихая, невозмутимо ясная жизнь, – очень возможно, что мы временно, – увы, только временно, – позабудем наше прошлое, все, нами пережитое.
А может быть – и это скорее всего, – мы с грустной ухмылкой посмотрим на новую жизнь, внутренно отойдем от нее и подумаем о том, что у нас есть СВОЯ ТАЙНА, СВОЕ ПОЗНАННОЕ, грустное, нежеланное (потому что посколько легче и светлее можно было бы прожить без всего), которое, однако, ничем не вытравишь в нас, в глубине нашей души.
И если это будут только миги, отдельные моменты осознавания всего пережитого, то и этого достаточно для того, чтобы сделать нас иными, с иными мыслями и переживаниями, проходящими сквозь жизнь, нежели проходили через жизнь все те, кто не имел в прошлом за плечами такого страдальческого опыта (наши деды, и, надеемся, будут проходить наши дети и внуки).
«Рожденные в года глухие – проникновенно говорит Блок, – забыть не в силах ничего».
А впрочем, может случиться совсем другое и положение, что история учит тому, что ничему не учит, останется в силе не только в отношении социального опыта, но и опыта индивидуального и поэтому многое не забытое формально будет забыто эмоционально, то есть попросту затухнет и умрет внутри нас, как одно из проявлений охранительных тенденций психики.
Обычно отдельное человеческое сознание, в виду краткости человеческой жизни, не улавливает в полной мере рост и эволюцию идей.
Мы, наше поколение, были поставлены в этом отношении в исключительное положение, так как мы могли на протяжении относительно короткого периода времени проследить полное завершение цикла – от начала индивидуальной формы существования идей, через их социальное воплощение вплоть до стадии их бытовой равнодействующей (их реализации в определенных формах быта – бытового уклада, привычек и навыков).
В этом, несомненно, заключается одно из важных преймуществ нашей жизненной мудрости по сравнению с мудростью других, предшествующих нам поколений.
Больше философии! Больше философии! Об этом вопиет вся современная нам жизнь в целом, как мировая, так и наша, об этом вопиет весь сегодняшний быт со всеми иглами его мелочей. Это необходимо и в целях всеохвата нашего понимания и в целях самозащиты духа (спасения высшей его целенаправленности от удушающих его больших и малых злободневностей преходящего «сегодня»). Философии не как вынужденной формы мышления и поведения – потому, мол, что деваться некуда, что хочешь-не хочешь, а должен стать Философом, а по самому существу жизни.
Жизнь кричит о себе, как никогда до сих пор не кричала, о своем глубоком и значительном содержании, о своей серьезности, о своей красоте, ликующей радости и мудрости, а мы – равнодушные, тупые, спящие, проходим мимо.
Мимо, мимо, мимо, цепляясь за малоценное, часто почти нереальное, пропуская мимо глаз или сквозь пальцы самое существенное.
Vorbeilebande Menschen – «миможивущие люди», как могли бы сказать о нас немцы на своем выразительном языке.
«Имеющий уши слышать, да слышит».
Великодушия! Великодушия»! Все кругом взывает к великодушию не в узком смысле сострадания, а в смысле величия духа, высшего стиля души.
Процесс романтики, красочности, разрушается в мировом масштабе. Мир оголяется, сереет, нивелируется, «цивилизируется».
Мы не знаем, как будут вести себя в нормальных условиях канарейки, так как мы привыкли видеть их только в клетках и не знаем, как они ведут себя на свободе.
Нельзя изучать нравы канареек, – их вкусы, интересы, повадки и прочее, исходя только из наблюдения над клеточными экземплярами. Любопытно, как они поведут себя, если их снова выпустить на свободу, отправив их для этого на родину – на Канарские острова.
Ужас интеллигентских «полуфабрикатов».
Это один из самых отвратительных видов «полуфабрикатов», – недоделанных или, вернее, лишь внешне поверхностно, накожно доделанных и поэтому недоосмысленных, глубинно совершенно не воспринявших культуру продуктов нашего времени.
Никто почему-то не осознает этого ужаса.
Никто ясно не чувствует, как нередко принижаются, опошливаются при таких условиях все основные культурные ценности, как начинают, выражаясь языком Гумилева, «дурно пахнуть мертвые слова».
Все чаще и чаще хочется сказать всей современной жизни в целом (как принято сейчас говорить: в мировом масштабе): «Довольно! Перестань, пожалуйста! Надоело!» Отмахнуться от всего и отодвинув в сторону картинку, посмотреть, что там за нею дальше и может быть, в этом «дальше» найти покой души.
Психология человеческого «подполья» лучше всего познается в условиях жизни в коммунальной квартире или при стоянии в очередях за продуктами. Поэтому коммунальная квартира или уличные очереди являются, по нашему мнению, лучшей школой для изучения «подпольного человека», всех его психических свойств и особенностей.
Для некоторых лиц вся психическая жизнь этим только и ограничивается и никогда не подымается выше уровня комнатной или пайковой психологии.
Стоило ли разбивать старые идолы, старые трафареты и косности, чтобы создать новые, еще более мощные трафареты, еще большие косности, стоило ли перестать креститься трехперстным знаменем, чтобы фанатически заменить его двухперстным?
Жизнь с каждым днем становится все более и более плоской, безнадежно распластавшись по горизонтали и утратив на сегодняшний день тенденцию к вертикальному росту, по мере того, как все более уплощается сам человек.
Наряду с этим идеологические горизонты на наших глазах концентрически суживаются, как-бы приближаясь к некоей конечной точке (конечному моноидеизму).
Старые глубины либо утратили со временем характер новизны и поэтому потеряли своб будирующую свежесть, кажутся сейчас ненужной, никчемной стереометрией на фоне какой-то сплошной планиметрии. Таков профиль сегодняшнего дня, фотография данного отрезка времени, если к нему подойти с точки зрения более общих форм «всеохвата».
Если, как говорит Гюго, «уменьшение человеческой глупости называется прогрессом», то, надо признаться, что прогресса до сих пор в человеческой истории было очень мало.
Ох, эти лимиты, пайки счастья, пайки понимания! Их и без того скупо выдает нам природа, но как безконечно убога эта «пайковая» психология, этот духовный «прожиточный минимум», преподносимый нам условиями разумного человеческого общественного существования!
Жизнь отпускается по талонам: каждой профессии выдается штампованный паек идей, в пределах которых она может вертеться.
По примеру индивидуальных психологических тестов (например, на внимание, память, комбинаторные способности и прочее), так четко выявляющим соответствующие психические функции, должны также существовать и социальные психологические тесты.
Таковы, например, тесты на общее огрубение нравов.
Эти тесты, наиболее демонстративно обнаруживающие это огрубение, больше всего сказываются в трех основных формах социального поведения.
Сюда относятся, прежде всего, проявления неуважения к смерти, неуважения к человеческим переживаниям в виде пренебрежения к тем местам, где, выражаясь образным языком Розанова, «особенно много надышали люди тепла», и, наконец, жестокостью и даже простой невнимательности по отношению к животным.
По этим признакам еще до начала детального анализа социальных явлений, можно, однако, безошибочно установить наличие общего огрубения нравов среди данного общества и в данный отрезок времени.
Наступает период все более наростающего неуважения к жизни, и это в мировом масштабе.
А нам все хочется верить, что придет время, когда люди научаться уважать жизнь и не только жизнь, но и отдельные миги ее.
Мы вправе сейчас говорить о мировом цинизме, в большей, чем когда либо мере.
Эпоха цивилизации – это эпоха «Нового платья Короля» по замечательной сказке Андерсена.
Хочется воскликнуть, по примеру маленького мальчика в этой сказке, при виде одетого в одну лишь ночную рубашку короля и торжественно шествующих за ним придворных, старающихся показать, что они несут его несуществующий шлейф: «да ведь он почти голый!!»
Наша мудрость заключается, прежде всего, в том, что у нас есть величайший опыт по линии «не надо».
Среди окружающих людей подавляющее большинство это лица с окостенелыми миросозерцаниями. Почти совершенно исчезла умственная свежесть, освежающее действие новых взглядов, новых форм восприятия мира.
Странное, совершенно «небывалое», парадоксально сконструированное время. Изменение основных понятий путем перевоплощения их в свою прямую, диаметрально полярную противоположность.
Правда стала кривдой, а кривда стала правдой.
Точно люди молчаливо условились между собой называть вещи прямо противоположными именами, перепутав для того существующие словесные обозначения.
Пройдет наша эпоха. Земля утучнится миллионами могил тех, кто впитал в себя при жизни неслыханный в истории коллективный страдальческий опыт. Если бы его можно было перевести в какую нибудь из известных нам видов энергии – например, в теплоту, – какой небывалой тепловой насыщенностью наполнился бы наш, безконечно много испытавший и безконечно много породивший чернозем, каким жаром веяло бы из под земли на продолжающее жить над этим черноземом новое человечество!
И если бы весь этот жар мог бы снова превратиться в формы психической энергии, какие новые просветленные формы осознания, новые достижения мудрости были бы порождены таким процессом, ибо ничто из опыта не было бы утеряно, каждый штрих был бы учтен и человечество благодаря этому умудренное колоссальным коллективным опытом, поднялось бы явно и убедительно для всех на несколько ступеней выше, расширив сферу своего понимания.
И тогда, с этих ступеней возможны были бы новые переоценки.
Тогда учтена была бы и наша сейчас слепая роль, наше ненужное и безцельное страдальчество в общем вихре молекул мирового круговорота.
Мы ведь не столько форма, этап развития, сколько лишь точка приложения этих вихревых сил.
Cквозь нас проносяться не только космические вихри (физико-химические, биологические), но и вихри социальные, перекатываются гряды социальных волн.
И уносясь обратно в космос и в историю, эти, некогда бывшие нашими частицы, на этот раз уже разсеянные, разобщенные, несут в жизнь свои новые потенциалы, новые готовности.
Современная жизнь в ее бытовых проявлениях идет по пути все большего уплощения и огрубения. Жизнь становится все менее простой, менее наивной, не только не становясь при этом серьезнее, лишь серея и обезцвечиваясь, становясь безвопросной.
Штампованность (стереотипия), всегда игравшая доминирующую роль в человеческих словах, отношениях, в мышлении и прочем, становится сейчас универсальной, создается какая то гегемония штампованности.
Исчезают обычаи, некоторые милые и безобидные традиции, не заменяясь чем либо новым и лучшим, а оставляя взамен себя лишь пустое место, разрушаются исторические осколки, здания, названия, различные формы орнаментации жизни.
Все более и более теряют свой удельный вес цветы, краски, ароматы, изысканные вкусовые ощущения, музыкально-чистые, кристаллически-ясные звуки, лишенные примеси катаральной хрипоты патефонов и радио.
За всем этим все яснее выступает оголяющийся оскал жизни.
А мы… продолжаем инстинктивно тянуться к полноценной жизни, к полноте и насыщенности положительных переживаний, чувствуя, что было время и возможность и сейчас, как некогда, есть они, сделать жизнь всесторонне, даже в повседневных мелочах, красивой, полной глубокого смысла, радостной.
Наша эпоха будет, вероятно, названа в истории эпохой крахов, эпохой идейных банкротств в мировом масштабе.
Скомпрометирован ряд основных ведущих идей, еще не так давно до последнего времени одухотворявших многих людей. Эти идеи скомпрометированы не в своей идеологической основе, а в формах их реализации в жизни, в характере той равнодействующей нравов, вкусов, интересов, бытовых форм, новых видов учреждений и общественных взаимоотношений, которые создались и создаются при непосредственном претворении в жизнь этих идей.
«Чингиз-ханы с телеграфами» – как определял Герцен современное сочетание культуры с вандализмом, – неизмеримо циничнее и трагичнее вандализма подлинных Чингиз-ханов, так как в этих случаях трагизм усугубляется сочетанием антиномических начал, культуры и варварства.
Он, конечно, придет, этот грядущий Ренессанс, как бывал он и в прошлые периоды истории (в истории Египта – в эпоху Эхнатона, в новое время).
Каковы будут основные черты этого грядущего Возрождения, как оно обнажит современное зашедшее в тупик человечество, какие новые идеи, новое понимание внесет оно в жизнь, какие новые формы социального устройства оно породит?
Это все вопросы, над которыми уже сейчас, наверно, напряженно думают…
Большие писатели-мыслители последняго времени – Флобер, Мопассан, Чехов и ряд других, – знали отрицательные стороны только уходящего буржуазного мира, мучились, страдали и задыхались в пошлости и безпринципности этого мира. Мы тоже знаем это, тоже это пережили, перестрадали, но мы жизнью научены большему и мы поэтому знаем чуточку больше их. И это «чуточку больше» есть нечто, немного выходящее за пределы той грани (прямо высказываемого или смутно ощущаемого), перед которой остановились они, нечто «входящее за пределы «не надо».
И это совершенно меняет наше отношение к миру – оно, пожалуй, еще более заостряется в смысле повышения осознания ценности жизни вообще и человеческой жизни в частности, но оно главным образом меняет наше отношение к Menschliches zu Menschliches*. Это Menschliches мы можем сейчас оценивать только психологически, то есть не так, как нам хочется, а как оно осуществляется.
В реальной жизни, согласно законам психологии средняго человека и закона психологии масс.
- Людське, надто людське (вираз Фрідріха Ніцше)
Чем больше живешь, тем более чувствуешь, как мало точек соприкосновения с довольным человеком, ибо довольство очень индивидуально, зависит от размеров и характера запросов, от степени культурности, от тонкости психической организации и прочего, и как много точек соприкосновения с человеком страдающим, ибо страдание универсально.
Оба эти состояния часто вызывают в нас в равной мере грустное настроение. «Как в сущности много в жизни довольных людей – с грустью замечает Чехов, – какая это ужасающая сила!»
А с другой стороны: «Боже мой, боже, сколько страданий, сколько свинцового горя кругом! (Надсон).
Только наивное довольство и наивная радость ребенка, равно как наивная радость животного более всего вызывает с нашей стороны созвучия, сопереживания.
Интересно отметить явление, на которое почему-то до сих пор мало обращалось внимания – это весьма бросающееся в глаза снижение у современного человека потребности в созерцательной стороне жизни, того, что в предшествующие исторические периоды находило для себя исход в монашестве, отшельничестве и в ряде других психологически однородных проявлений.
В настоящее время это почти окончательно ушедшая форма душевных переживаний. В ней нет больше потребности, она уже не нужна современному человеку и поэтому в жизни не создается для нее каких-либо замещающих образований, психологически адэкватных суррогатов. Нет суррогатов монастырей, нет суррогатов отшельничества.
Созерцательная сторона жизни распалась по мелочам, распылилась на созерцательные осколки, спорадические преходящие крупицы созерцательности.
Уничтожение созерцательности это кризис всего мироощущения современного человека. Человек за эти годы стал иным, стал существом иной психологической структуры.
Может ли современный человек, хотя бы на самый короткий срок, добровольно, по собственному побуждению, обойтись без газет, без книг, без общения с людьми, остаться лишь со своими мыслям, удовлетвориться и насытиться ими? Это чем дальше, тем для преобладающего большинства людей становится все более невозможным.
«Никогда деятельные, то есть безпокойные, – говорит Ницше, – не имели большего влияния, чем теперь. Поэтому к числу необходимых корректур, которым нужно подвергнуть характер человечества, принадлежит усиление в очень большой мере созерцательного элемента».
«Так как недостает времени для мышления и спокойствия в мышлении – говорит он дальше, – то теперь уже не обсуждают несогласных мнений, а удовлетворяются тем, что ненавидят их. При чудовищном ускорении жизни дух и взор приучаются к неполному или ложному созерцанию и суждению; каждый человек подобен путешественнику, изучающему страну и народ только с вагона».
«Жалоба, подобная только что пропетой – спешит добавить он далее, – будет, вероятно, иметь свое время и некогда сама собой смолкнет при могущественном возрождении гения созерцания».
Сейчас больше, чем когда либо, необходимо выступить на защиту созерцательной стороны жизни.
Необходимо оправдать созерцательность.
Все наше познание складывается из усвоения, то есть преемственного знания, получаемого нами от других – их книг, словесной передачи, из наблюдения и из созерцания.
Наблюдение, в отличие от созерцания, носит выборочный характер. Познание само по себе в значительной мере пассивно, оно не служит матерьялом для размышления. Из всех элементов познания наиболее пассивным является созерцание. Однако, с последним в то же время больше всего связано чувство жизни.
Я живу – это ощущение порождается больше всего созерцанием, а также некоторыми переживаниями, так как переживания – тоже особый раздел познания (в некоторых переживаниях, как в эмоциональных состояниях, особенно сказывается полнота жизнеощущения).
Декартовское cogito ergo sum – «я мыслю, следовательно, я есмь», – абстрактно и бездушно. В жизни примат остается за второй частью: «я есмь». Отсюда вытекает все остальное – мои мысли, переживания и прочее. В состав «я есмь» входят главным образом созерцательные элементы.
Только не торопясь, можно чувствовать жизнь.
Только по глоткам можно испытывать вкус воспринимаемого. Созерцание ближе, чем иные формы нашего познания, к первичному переживанию (Uhrerlebnis Гете), ибо в нем меньше всего предвзятости, априорных схем, «точек зрения».
В отличие от всех других форм познавательного процесса созерцание есть определенная форма не-деланья. Того прекрасного не-деланья, которое так рекомендуют некоторые (например, Толстой).
Созерцание дальше всего от прагматизма жизни, а отсюда дальше всего от суетности.
В истории человеческого познания созерцание в значительно большей мере, нежели все другие формы познания, служит основой для философии и для религии. И если в современной философии оно играет меньшую роль, чем в философии прошлого, то все же и сейчас его в ней больше, чем в науке.
Но и в науке некоторые ученые (например, Фабр) стоят на грани между наблюдателем (естество-испытателем) и созерцателем природы.
В этом их особая привлекательность и их [своеобразие].
Быть может, такая «созерцательная» наука, соединенная созерцанием, нам потому более привлекательна, что она прямее, естественнее и что она ближе к жизни.
Сколько нужно было душевной бодрости, чисто витального оптимизма (или наоборот, душевной тупости), чтобы прожить эти годы, годы, начиная с эпохи империалистической войны, дикой и безсмысленной, до самых последних дней – эпохи новой, неизмеримо более зверской войны!
Невольно вспоминается Гейне:
Много думал я сначала:
Нет, не вынесу никак!
Но ведь вынес, и немало,
Но не спрашивайте: как!
Это, конечно, не проходит совершенно безследно. В результате, чувствуется определенная степень душевной опустошенности, уплощения восприятия жизни, ее мистической сущности, подмена в повседневной жизненной практике этого восприятия грубо примитивной, до крайности упрощенной формой.
ДЕВАТЬСЯ НЕКУДА! Это совершенно особое, исключительное переживание, особенно тогда, когда оно возникает не остро, как это чаще всего бывает, и при этом бывает не ситуационно обусловленным (ТАКАЯ МИНУТА – стык обстоятельств, тупик), но принимает длительное, стойкое и безпросветно долгое впереди течение.
И не лично деваться некуда – мало ли какие бывают личные драмы, не как классу, ибо классы, как известно, исторически гибнут и заменяются новыми, и не как нации, ибо нации по существу никогда не гибнут, а именно ИСТОРИЧЕСКИ деваться некуда некоторым лицам, как носителям определенного понимания, можно было-бы сказать КАТЕГОРИАЛЬНОЙ формы этого понимания, присущей целой культуре, ее конденсированному ядру, ее summa summarum.
Это понимание неистребимо, его никто не смог и не сможет вытравить из жизни, но именно ему-то, а отсюда и лицам, носителям этого понимания, СЕЙЧАС, в данный, повидимому, длительный отрезок мировых событий, исторически ДЕВАТЬСЯ некуда.
«А для бедных мандаринов нету места на земле»…
Кто поймет когда-нибудь наши страдания, нас, задыхающихся людей! Кто сумеет оценить ежедневные, ежечасные, часто незаметные удары, которые мы получаем, ту неслыханную напряженность – нелепую, безсмысленную напряженность, которая отравляет нам жизнь, лишает нас вкуса к ней.
Нет, никто никогда не поймет, ибо закон забвения, спасительный, благодетельный закон, без существования которого жизнь была-бы невыносима, сглаживает и шлифует все прошлое, оставляя только вехи, этапы, часто как раз те, которые мы, современники, не знаем и не чувствуем.
Мы протягиваем руки к отдаленному брату нашему, еще не родившемуся, и говорим ему: «пойми нас!» Пойми нас и нам станет легче от мысли об этом, ибо этим устанавливается внутренняя преемственность, та, которая хоть чему-нибудь и хоть немного, да учит. Мы претендуем на коллективный страдальческий опыт.
Современность налагает на нас величайшую ответственность – ответственность осознания всего происходящего, не с узкой, как это чаще всего бывает, провинциальной точки зрения ходячих понятий и представлений сегодняшнего дня, неизбежно пристрастных и однобоких, а с точки зрения больших исторических перспектив, безстрастного охвата ближайших судеб человечества.
Вспоминая, как жили наши отцы, деды, возможно и прадеды, приходится признать, что все мы были до этой поры исторически избалованные люди. Мы забыли про прошлые исторические эпохи – эпохи раннего христианства, средневековья, безконечных религиозных и политических войн и проч. и проч. Мы не видим дальше своего узкого кругозора – кругозора сегодняшнего дня.
Исторический провинциализм имеет весьма мало преймуществ перед историческим каннибализмом.
То, что мы пережили за последние двадцать с лишним лет и что продолжаем сейчас переживать, хватило-бы по своему страдальческому объему, многообразию и глубине не на одну, а на многие десятки человеческих жизней.
В этом отношении опыт наших отцов, умноженный в несколько сот раз, не может сравниться с нашим опытом.
Конечно, все это касается лишь тех, о которых в Писании сказано: «имеющий уши слышать – да слышит».
Конечно, инстинкт жизни в той или иной форме всегда, при всех обстоятельствах, продолжает существовать, хотя тоже со значительными колебаниями.
Но никогда еще, кажется, не было так трудно, так непосильно трудно, как сейчас, ИДЕОЛОГИЧЕСКИ СОВЛАДАТЬ С ЖИЗНЬЮ, ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ОСМЫСЛИТЬ ЖИЗНЬ, В КАКОМ ПЛАНЕ ОСМЫСЛИТЬ ее и главное – СДЕЛАТЬ ПРИЕМЛЕМОЙ при учете всего происходящего. Если, конечно, не закрывать глаза на многое, не окружать себя частоколом готовых штампованных формул, не прятаться за словесными прикрытиями, не выискивать удобных лазеек для недодумывания до конца.
Человечество, кажется, никогда еще не жило в атмосфере такой оголенности бездны (а если частично и жило, то в периоды своей значительно менее сознательной жизни, когда и требования к осмышлению и к приятию ее были неизмеримо менее строгими.
Русский трагизм углубленнее, утонченнее и многообразнее трагизма европейского и вообще трагизма мирового.
Русские – повидимому, исторически предопределенные трагики на подмостках мировой истории, где они призваны подлинно переживать во всей его значимости мировое зло.
Такая атмосфера страдальчества и тоски чувствуется в русском пейзаже, в укладе некоторых, мы бы сказали лучших русских людей, в элементах надрывности (тоска по мечте), пронизывающих тонкой, не всегда уловимой прослойкой их мысли, высказывания (особенно, конечно, интимные), иногда только жесты, выражение глаз.
Можно было бы, пожалуй, сказать, что в русском воздухе помимо обычного кислорода, азота и всего прочего, что полагается, есть еще нечто – какая-то ничтожная, не уловимая никакими анализами, примесь – мирового страдальчества.
Доказать это, конечно, невозможно, но временами оно чувствуется. Вот почему все исторические моменты в жизни русского народа воспринимаются прежде всего как боль.
Временами это становится невыносимым, а временами, когда его нет, остро чувствуется, как трудно подолгу жить без русского трагического сознания!