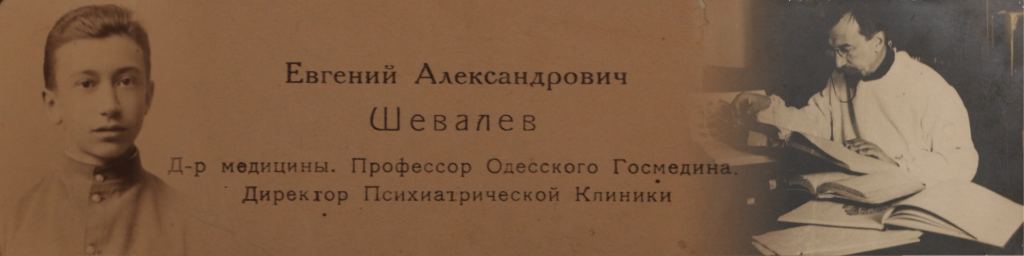Тема смерті у філософських нотатках Євгена Шевальова розкривається менш песимістично, ніж теми життя, соціальності або сучасності. Смерть для Шевальова – це лише епізод між двома станами свідомості. У даному тексті він називає цю іншу сторону буття «ничто», беручи це слово у лапки. Натяк на іншу гіпотезу потайбічного зустрічаємо у записках «Личное»:
«Устал от человеческих форм существования, которые надоели, ограниченность которых все более чувствуется. Хочется новых Форм бытия, нового, не трехмерного восприятия, нового «я» (новой «самости»), новых переживаний, нового запаха и вкуса мира. Хочется видеть вокруг себя иные существа»
Можна припустити, що допитливий Євген Шевальов був ознайомлений і поділяв ідеї певної течії «світського окультизму» – наприклад, Теософської (Блаватська, Безант, Ледбітер) або Антропософської (Штайнер) шкіл. На це ж можуть вказувати роздуми Шевальова про злиття із всесвітом, всеохоплюючий космізм – концепти, далекі як від наукового матеріалізму, так і для традиційних релігій.
Віра Шевальова та її джерела лишаються відкритим питанням. Прямо випливає з його роздумів те, що життя може бути значно страшнішим, за смерть.
Текст відтворено у відповідності з авторською лексикою та орфографією. Неідентифіковані або втрачені фрагменти позначені трикрапкою, реконструйовані – виділені квадратними дужками. Авторські виділення та посилання збережені. Більше про технічні та стилістичні особливості читайте у передмові до філософських статей Євгена Шевальова.
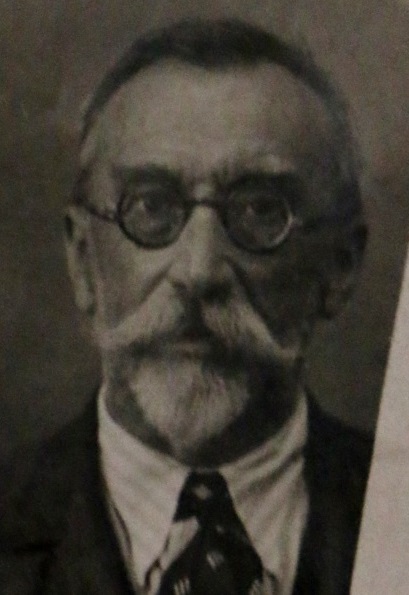
Євген Шевальов в останні роки життя
I.
Человечество в своих религиозных концепциях посвятило несравненно больше внимания вопросу о том, что будет после смерти, нежели вопросу о том, что было до нашего рождения.
А между тем, объективно разсуждая, обе эти неизвестности равноценны.
В понятие смерти мы привыкли вносить лишь одностороннее ее понимание как конечного, завершающего жизнь, не-существования.
Однако имеется и противоположное ей первичное не – существование.
Мы, – в смысле нашей сознательной психической жизни, – рождаемся из «ничто» и в конце концов возвращаемся в «ничто».
Это другой полюс смерти – изначальное небытие, – повидимому однороден противоположному ему конечному небытию и не в меньшей, если не в большей мере, таинственен.
Вот почему он, казалось бы, должен был, как и смерть, вызывать к себе внимание и служить основой для его религиозно-мистического преодоления.
II.
По Мечникову, жуткость смерти должна в очень преклонном возрасте все больше убывать и сглаживаться и таким образом должно получаться все большее примирение с ней. Это уже не философский вывод из всех предшествующих жизненных знаний и опыта, не философски сознательное и ясное принятие смерти – это просто тупая усталость потухающей жизни, все больше теряющей вкус и интерес к существованию, для которой покой и небытие становятся с годами дороже всего.
Здесь, следовательно, в конечном итоге расчет на на ratio, как на какое – то высшее разумное преодоление проблемы смерти (этот разум, ratio, в разрешении загадки жизни признается при такой точке зрения несостоятельным), а исключительно только расчет на безсознательность.
Такого рода разрешение проблемы представляет собой одну из ярких форм столь распространенного в жизни бегства от реальности.
III.
Принято говорить о трагической неразрешимости многих величайших мировых проблем – гносеологических и моральных, – и характеризовать их в их общем и в их индивидуальном плане.
Однако, жизнь показывает, что со многими проблемами, мучащими человека в молодом возрасте, он впоследствии нередко свыкается и сживается, одомашнивает их или просто вытесняет их из своего повседневного обихода, заменяя более близким, конкретным, сугубо реальным.
Большинство мировых проблем часто разрешается в индивидуальном порядке путем функционального затухания их значимости для человека, ослабления их нажима на его психику.
На этом и построено по существу учение Мечникова о приемлемости смерти в период глубокой старости.
Нужно признать, что в плане чистого материалистического миропонимания такой вывод, пожалуй, действительно является единственно правильным, стушевывающим заостренный трагизм всей проблемы путем ее неосознаваемого, чисто биологического изживания.
IV.
Очень знаменательно то, что на могилу умершего человека принято приносить цветы.
В этом сказывается стремление противопоставить смерти самое красивое, нежное, радостное и вместе с тем самое скоропреходящее, хрупкое из всего, что существует в мире – как бы символически наиболее конденсированный праобраз жизни со всеми ее положительными и отрицательными требованиями.
V.
Сколько бы мы не готовились заранее к трагическим моментам жизни, мы никогда не гарантированы от возможности панического страха перед жизнью, страданием, смертью, и от зоологически жутких переживаний, перед которыми теряется все «человеческое», так как, в конце концов, по справедливому замечанию Гейне: «в сущности все мы голыми ходим в наших платьях».
Когда человек умер, как жалки кажутся его вещи – одежда, предметы обихода, любимые мелочи, многочисленные пустячки обыденности, трогательно безпомощные.
Все это лишь осколки, насыщенные психизмом, частицы уходящего живого, больше всего демонстрирующие духовность жизни и ее слабую связь с предметностью, вещественностью.
Эта вещественность замещается совершенно новым, рафинированным, одухотворенным – образом воспоминания, в начале ярким, многогранным, а затем с каждым днем все более затухающим, мумифицирующимся, в узко ограниченный по своим признакам штамп, трафарет, и, наконец, совершенно улетучивающимся и распыляющимся в пространство.
«В нашей душе наши умершие, – как прекрасно выразился Роденбах, – умирают во второй раз».
И при этом, – прибавим мы от себя, – умирают не внезапно, а медленно, постепенно, путем все большего сужения признаков, присущих воспоминаниям об отошедшем, обеднения их и их постепенного потускнения, пока, наконец, не останется последний осколок некогда многогранного и живого, окончательный, почти не вызывающий живые чувства, окаменелый «скелет воспоминаний».
Последнее и окончательное «нет», «небытие» некогда бывшего духовного и матерьяльного содержания.
Параллельно с этим, чаще всего, однако, значительно медленнее, идет и затухание значимости и одухотворенности вещей, спутников ушедшего человека, так как они матерьяльно, вещественно поддерживают еще последние нити, связывающие настоящее с прошедшим.
VII.
Смерть не только потрясает, огорчает и прочее, но и досадно мешает жизни, так, что хочется поскорее от нея отвернуться, позабыть ее, вытеснить ее из своего сознания.
Смерть не только трагична, но наряду с этим даже при спокойном, объективном, безаффектном ее рассмотрении предельно алогична, аморальна, мы бы сказали, арелигиозна.
Все это, вместе взятое, и обуславливает в значительной мере ее трагичность, но особенно эта трагичность заключается в противоречии ее всему живому (всему «биосу» в широком понимании этого слова), хотя в действительности оба эти явления: жизнь и смерть всегда сосуществуют рядом с друг другом, в взаимной зависимости друг от друга (жизнь порождает смерть, смерть порождает жизнь).
Она мешает повседневности, так как вносит в нее вопиющую дисгармонию, диссонанс, меняет осознание, осмышление (рационализации) всего окуржающего; следовательно, мешает науке, философии, мешает гармонизации нами мира, улавливанию в нем высших ритмов; следовательно, мешает искусству – поэзии, живописи, музыке.
Мешает, наконец, и религиозному осознанию мира, хотя именно религиозное осознание больше всего учитывает смерть, стремясь преодолеть ее в высшем мистическом синтезе, однако и в этой религиозной приемлемости смерти, в религиозном оправдании ее, всегда чувствуется некоторая напряженность, какие – то скрытые элементы внутренняго насилия над прямым непосредственным сознанием, над стихийным биологическим протестом против смерти, иногда чувствуется даже явная искусственность, надрывность.
Смерть – это предельная необратимость.
Все прочее в мире не окончательно, оно в той или иной мере обратимо. И хотя наше тело – отдельные клетки организма, – по мере их роста, развития и увядания, непрерывно гибнут, отмирают, хотя каждый прошедший день, каждый час, каждое пережитое мгновение безвозвратно уходят в вечность, тем не менее, окончательное отмирание целостных, законченных в самих себя образований – живых существ и особенно человека, для нас продолжает оставаться максимально неприемлемым.
Человек никогда, ни при каких условиях, не может воспринять и примирить это «ничто», и никакие «что-то», как бы ярки они не были и как бы пламенно в них не верилось, не могут сполна, без остатка заполнить образующуюся брешь.
Из всех мировых неизвестностей это наиболее остро и наиболее огромно ощущаемое нами «ничто».
Смерть вообще – предельность из предельностей.
Максимально близка, интимна (например, смерть близкого человека), и наряду с этим максимально чужда (высшая форма отчуждаемости).
Предельно проста и предельно таинственна.
Максимально непонятна/иррациональна.
То, о что разбивается все человеческое, все логические, моральные, религиозные и эстетические осмысленности, а также все, что дышет, движется, растет – словом все живое (отсюда ужас от непоправимой окончательности смерти, непонятности ее).
И наряду со всем этим, если можно так сказать, максимально жизненна (непрерывное сочетание и непрерывный переход жизни в смерть и смерти в жизнь).
VIII.
Смерть – это «эпизод», бытие и небытие это состояния.
Значительность этого «эпизода» заключается не в нем самом, а в том, что он является гранью, поворотным пунктом между двумя состояниями – бытием и небытием.
Ведь болезнь и смерть это нечто случайное, чаще всего совершенно не характеризующее личность. В самом деле, что характерного для Гегеля или для Чайковского в том, что они умерли от холеры?
Если бы каждый из нас получил возможность вспоминать впоследствии обстоятельства своей смерти, то этих воспоминаний хватило бы на весьма непродолжительный срок и они во всяком случае не заняли бы большого места на всем жизненном пути человека. Вот почему нас если и может интересовать вопрос о том, как умирал тот или иной человек (вернее, как он относился к факту приближающегося конца, – в согласии ли со всем своим миросозерцанием или в разрез с ним), то для нас чаще всего совершенно безразлично, отчего он умирал.
Факт умирания может дополнить биографию (Толстой, Чехов, в древности Сократ) или противоречить ей, но самый факт смерти при этом безразличен и до известной степени во многих случаях даже малозаметен с точки зрения характеристики личности в целом.
Смерть для самого умирающего чаще всего несравненно проще, нежели для окружающих (особенно в тех случаях, когда она не сопровождается страданием или происходит в безсознательном состоянии). Особенно она, повидимому, проста там, где она возникает внезапно. Мы, однако, и в этих случаях боимся, что этому моменту предшествует мгновенная, молниеносная доля секунды – такого, быть может, нечеловеческого страдания, такого пронизывающего воспоминания всей жизни, какое мы себе даже и представить не можем. Но это только мистика страха смерти, только предположение: а что если?
В общем во многих случаях все это, повидимому, проще, домашнее, может быть даже уютнее (например, смерть в глубокой старости) для самого умирающего, [нежели об этом принято думать]. Но для живых, для здорового сознания – смерть нечто наиболее остро пронизывающее это сознание.
Факт умирания во многих случаях не имеет никакого значения для характеристики личности, что само по себе, если бы за этим не последовала смерть, было бы совершенно маловажным и незаметным.
Лучше было бы, если бы дети и друзья вспоминали не нашу смерть (если они вообще что либо будут вспоминать), а то, каким каждый из нас был в жизни, особенно на высоте чувства жизни, так как это больше всего характеризует человека.
IX.
Основные антонимичности: жизнь – смерть (вернее, умирание и неразрывно связанное с ним страдание).
Правильнее было бы назвать их основными мировыми тенденциями, тенденцией зарождения жизни и тенденцией умирания.
Возле этих узловых точек как возле полюсов наэлектризованного тела сгущается наибольшая часть психической энергии – главным образом энергии любви.
Остальная протяженность жизни представляется в этом смысле либо нейтральной (нейтральной в смысле любви), либо более или менее насыщенной, приближаясь к тому или иному полюсу.
Таким образом, на фоне основных тенденций разыгрывается несколько более ограниченная, лишенная антиномичности, тенденция – тенденция любви, мистика пола, изначальный «эрос», которая захватывает не только одушевленный мир (животных, растения), но и мир неодушевленный (иначе, например, нельзя понять, отчего становится таким влекуще-нежным и волнующим весенний воздух.
Зимой все эти тенденции чувствуются несколько глуше.
Весной особенно ощущается мистика пола, стихия зарождающейся жизни.
Осенью в связи с общим увяданием проникновеннее познается тенденция смерти.
Тенденция любви, будучи независимой от двух основных, взаимнополярных тенденций – тенденции зарождения и тенденции умирания – интенсивнее всего, однако, бывает выражена в периоды времени, близкие к моментам проявления этих двух тенденций.
Удивительная мысль Карпентера: действительно maximum напряжения любви в жизни связан с моментами рождения и смерти (или, добавим от себя – с тем, что приближается к смерти – со страданием).
Акту деторождения предшествует любовь и сопутствует с особой интенсивностью весь первый период после рождения.
Точно так же момент умирания и смерти чаще всего вызывает сильный наплыв энергии любви…
X.
В отношении проблемы умирания весьма распространена своеобразная романтика – «романтика умирания».
Принято считать, что человек, чувствуя, что он умирает, обычно имеет возможность подитожить свою жизнь.
В действительности, однако, все бывает значительно проще.
Человек чаще всего умирает либо случайно (то есть совершенно бездумно), либо погруженный в относительно малые, нередко даже совершенно мизерабильные интересы сегодняшнего дня, иногда даже только данной минуты (мыслями о мелочах своего здоровья, благосостояния, общего или семейного положения и прочем в том же роде).
Правда, иногда последние перед смертью слова, произносимые не то в состоянии полузабытья, не то в состоянии конденсированного сознания, как-бы обнаруживают скрытые, наиболее затаенные мысли умирающего (или же, что тоже может быть, мы эти слова, имеющим другой, более простой и обыденный смысл, позднее многозначительно толкуем).
Таково известное восклицание Гете перед смертью: «Больше света!» (Mehr Licht), о котором неоднократно вспоминают биографы. Таково восклицание Ибсена в полусознательном состоянии перед смертью: «Наоборот!», как бы определяющее собой в одном слове протестуозность всего направления его идей. Таково также восклицание Толстого в период его болезни во время пребывания его в Крыму, когда сам Толстой считал, что он уже умирает, ночью, в полузабытье: «Только то? Совсем не страшно!», наиболее ярко вскрывающее основной ведущий мотив всех его философских исканий – страх перед смертью.
Философская смерть с подитоживанием всей жизни, с глубоким осознанием прошлыми жизни и смерти, встречается относительно весьма редко.
Просветленное умирание как высшая форма осознания, как форма высшего синтеза, является уделом весьма небольшого числа лиц, главным образом среди много думавших и много переживших людей.
XI.
Со смертью каждого человека уходят в вечность недосказанные им или недодуманные до конца мысли – общие или профессиональные – его недовершенные начинания, недопетые песни – и при этом не только банальные, представляющие собой повторение уже давно всем известного, но, наверное, очень часто также и оригинальные, новые, нужные для жизни, способные, быть может, осчастливить жизнь.
Следует вообще заметить, что такого рода «лучеиспускание в пространство», безследно теряющееся для человечества, осуществляется не только со смертью, но и на протяжении всей жизни человека, особенно в периоды так называемых «возрастных кризисов» (переломов возрастного характера), когда новое часто резко отчуждается от всего прошедшего, безследно прерывая его, а также в связи с личными и социальными переменами.
Здесь как-бы осуществляется та же безумная, непонятная для нас, расточительность, лишенное всякой экономии разбрасывание, разбазаривание умирающих впоследствии частиц, как и в природе – в безсмысленном перепроизводстве и расшвыривании спор и семян растений, икринок, первичных зародышей всего живого.
Так же безследно обсыпается в жизни все личное, интимное и очень, очень много социального (безсмысленно ненужная затрата социальной энергии, массовая потеря человеческих усилий, жизней), в результате чего получается, и то далеко не всегда, какой – то, в значительной мере проблематический остаток, какая-то форма биологической и социальной преемственности, ничтожная, часто совершенно малозначительная доля того, что было в начале.