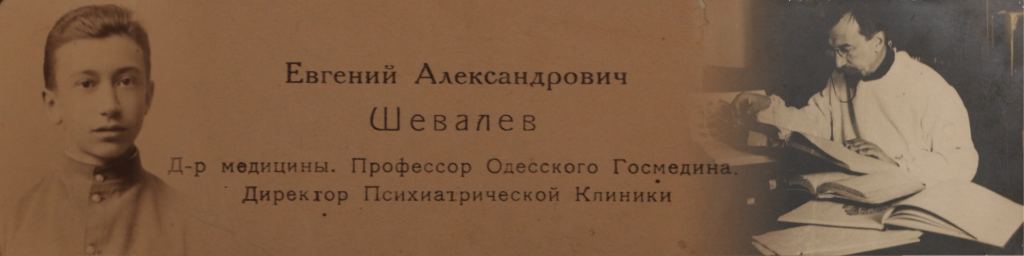Так само, як трактат «Философия страдальческого опыта» є зрізом втомленої та розчарованої частини Євгена Шевальова, нарис «О ненужном» вказує на природу його життєлюбства. Тонке відчуття моменту, станів природи та людських емоцій, – таких мимовільних, проте глибоких, вічних і об’ємно радісних – служить для автора джерелом натхнення у світі суєтної діловитості.
З тексту складається враження, ніби автор жалкує про те, що успішна кар’єра позбавила його можливості насолодитися багатством природи, глибиною літератури, гармонією мистецтва. Показовим є повний відрив нарису «О ненужном» від психіатрії, досліджень, наукових досягнень та організаційних звершень, які складають зміст «офіційної» біографії Євгена Шевальова.
Тим часом, нарис випереджає будь-яку з відомих нам наукових статей Шевальова за кількістю джерел та посилань: у тексті міститься 72 посилання на роботи 34 письменників, філософів, художників та мистецтвознавців. Серед них найчастіше цитується Фрідріх Ніцше (10 разів), Олександр Блок (5 разів), Антон Чехов, Лев Толстой, Федір Достоєвський та Василь Розанов (по 4 рази), Оскар Уайльд, Ральф Емерсон та Волтер Патер (по три рази).
За своїми стилістичними та технічними особливостями текст є подібним до решти філософських праць Євгена Шевальова.
На відміну від наукових статей, у своїх філософських працях Євген Шевальов не переймається цілісністю та завершеністю викладу. Різнорідні тематичні блоки об’єднує спільний настрій. Цитати, сентенції та умовиводи ніби «вкидуються». Частими є повтори того ж смислу у різних формулюваннях – як авторських, так і цитованих. Саме така манера викладу без претензій на цілісність, повноту і аргументованість є, на думку автора, найбільш чесною по відношенню до матеріалу екзистенційного характеру.
Машинопис являє собою 41 аркуш з наклеєними фрагментами тексту, набраними на різному папері та різних друкарських машинках. Автор постійно редагував текст, «врізаючи» нові абзаци, вписуючи правлення та цілі речення від руки.
Текст поділено нами на 47 смислових блоків наступного змісту:
I – Новизна проблеми непотрібного; II – Про велике і мале в житті людини; III – «Ми піднімаємо свої голоси на захист дрібних крихт буття…»; IV – Про дрібниці повсякденності; V – Ієрархія життя; VI – «Нам хочеться підняти свій голос на захист деяких форм цього непотрібного і безцільного».
VII – Що таке щастя; VIII – Про велич моменту; IX – Про силу словечок; X – Крихти повсякденного у формуванні людини; XI – «Усе інтимне – це майже на 100% непотрібне; XII – Містика посмішки.
XIII – Про вихолощування чуда; XIV – Про невловимі почуття; XV – Мистецтво і непотрібне; XVI – Про непотрібне ні мистецтву, ні науці; XVII – Про цінність споглядання; XVIIІ – Про мистецтво повсякденності.
XIX – Про скромність значущого; XX – Цінність моменту; XXI – Про скромність прекрасного; XXII – Осмисленість неробства; XXIII – Про лінь як моральну перевагу; XXIV – Про не діяння.
XXV – Непотрібне слід відрізняти від зайвого; XXVI – «Обсяг милого непотребу з віком звужується»; XXVII – Прориви із царства непотрібного у царство свободи; XXVIIІ – Про справжню і показну серйозність; XXIX – Найважливіше в житті відбувається тихо; XXX – Про цинізм сучасності.
XXXI – Про ділове викривлення життя; XXXII – Мистецтво нюансу; XXXIII – Непотрібне та істинна сутність світу; XXXIV – Про культуру деталей; XXXV – Корисність непотрібного; XXXVI – Про дві правди.
XXXVII – «Ми піднімаємо питання про молекулярну структуру людського щастя»; XXXVIII – Життєва стурбованість принижує людське щастя; XXXIX – Щастя є аісторичним; XL – Про різновиди та визначення щастя; XLI – Космічність мимовільного і пафос таємниці; XLIІ – Проходити повз неботрібне – проходити повз життя.
XLIII – Про репресивність сучасності та історичній канібалізм Європи; XLIV – Час виступити на захист непотрібного; XLV – Про містичність життя; XLVI – Непотрібне як філософська і психологічна проблема; XLVIІ – Про шум історії і сталість людської душі.
Текст відтворено у відповідності з авторською орфографією. Для неї властива довільна комбінація норм, що діяли до 1956 року та дореволюційних правил. Звідси використання апострофу замість твердого знаку; префіксів раз-, без-; закінчень -аго, -яго, вживання таких слів, як «матеръял», «преймуществу», «противуположность», «посколько», «повидимому», «внутренно» тощо.
Незрозумілі фрагменти тексту опущено і позначено три крапкою. Реконструйовані фрагменти – виділено квадратними дужками.
О НЕНУЖНОМ
Проблема ненужного, бесполезного, и его фактическое значение в нашей повседневной жизни, насколько нам известно, не привлекала к себе до сих пор внимания исследователей.
Ясное научное, философское, психологическое и иное рассмотрение того или юного явления предполагает прежде всего значимость и, следовательно, нужность этого явления.
Это, как увидим в дальнейшем, в меньшей мере касается художественных форм – в живописи, поэзии, музыке.
Жизнь каждого из нас строится главным образом из больших объектов – отдельных, более или менее длительных целевых установок, отдельных, если не всегда событий (то есть явлений, возвышающихся над обыденностью, над бытом), то, во всяком случае более или менее длительных и стойких, планомерно построенных мыслей, стремлений, действий.
В своих суждениях, мечтах, планах на будущее, мы всегда имеет в виду эти большие объекты, известные жизненные вехи. Ими определяется то, что называется счастьем, несчастьем, жизненной удачей, карьерой, профессией и прочим. Эти объекты являются предметом нашего преимущественного внимания и по ним, по этим вехам, протекает обычно все наша сознательная жизнь. Но, наряду с этим и в неизмеримо большем размере жизнь полна явлениями, которым мы не придаем такого значения, считая их в общей массе ненужными, бесполезными.
Такими ненужными чаще всего представляются явления мелкие по своим размерам или же по своей продолжительности. Все нужное чаще всего бывает значительных размеров, монументально, а во временном отношении более или менее длительно, тогда как понятие о ненужном чаще всего охватывает все маленькое или все быстротечное, мимолетное. Отсюда, естественно, говоря о ненужном, коснуться значения в нашей жизни этих крупиц бытия.
Мы подымаем свои голоса в защиту малых крупиц бытия, чаще всего недостаточно замечаемых нами и поэтому игнорируемых, так как мы обычно строим свою жизнь главным образом на переживаниях, связанных с более или менее длительными отрезками времени.
Говоря о малых частицах бытия, мы не имеем в виду обязательно малую величину временных интервалов, в которых они заключаются, подразумевая при этом также и нередко малое их содержание. Иногда и довольно длительные отрезки времени бывают наполнены этим «малым» содержанием, которое мы незаслуженно игнорируем. Это особенно касается статических моментов, так как мы больше живем в сфере динамики, нежели статики. Поэтому мы недостаточно учитываем некоторые формы этой статики – например, созерцательные элементы нашего бытия. А между тем, часто природа, как бы неподвижно застывшая в состоянии радостного оцепенения, когда не только горы, деревья, но и звуки (крики птиц) кажутся неподвижно живущими в самих себе, вызывает у нас ощущение, что так созерцательно можно было бы жить без конца, без пресыщения и без потребности в будущем.
Иногда также, глядя на одинокое облако, кажется, что можно было бы смотреть на него так без конца и ничего бы при этом не надо было бы в жизни.
Конечно, есть целый ряд таких мелочей жизни, крупиц бытия, во всех отношениях ничтожных, малозначительных, которые стараешься скорее забыть, так как фиксировать внимание на них было бы недостойно и нелепо.
Есть люди, привыкшие жить в сфере мелочей повседневности – мелочей не только в смысле их кратковременности, но и в смысле их действительной жизненной значимости. Это жалкие люди «сегодняшнего дня» менее всего должны привлекать к себе наше внимание.
Говоря об отдельных переживаниях минуты, ненужных на сегодняшний день, мы, конечно, не имеем в виду того примитивного, свойственного главным образом детям, состояния, которое определяется понятием «торжество момента», тех форм неучета более отдаленных временных интервалов прошедшего и будущего, – которые известны под именем беспечности, легкомыслия. Мы хотели бы только повысить значимость некоторых моментов бытия, несправедливо оттесняемых и подавляемых прагматизмом современной жизни.
Говоря о ненужном, мы имеем в виду явления хотя и кратковременные, но значительные в ином плане – в плане полноценной, многогранной жизни, построенной на богатстве, глубине и многообразии переживаний. Эти «мелочи» мы обычно игнорируем только из-за их кратковременности и отсутствия практического значения.
Жизнь и деятельность каждого из нас, связанная с определенной трудовой установкой, построена на началах распределения всех наших целенаправленных действий в порядке их большего или меньшего значения для тех заданий, которые имеют отношение к этой трудовой установке.
Эта иерархия в распределении касается не только всех наших действий, но и всех вообще впечатлений, получаемых нами от окружающего нас мира, посколько эти впечатления, в связи с целевой установкой, делятся нами на две категории: с одной стороны – на нужные, важные, с другой – на ненужные, неважные, не имеющие к ней прямого отношения. В результате, все мы живем, по крайней мере в сознательной части нашего существования, больше всего в сфере этого нужного и важного, которое и представляет для нас наибольшее значение в жизни.
Нам хочется поднять свой голос в защиту некоторых форм этого ненужного и бесцельного, мягко, наподобие паутинки охватывающего лицо, и через секунду уже бесследно исчезающего, словно легкий, едва внятный запах, напоминающий что-то неясное, знакомое. И вот эти-то атомы, которыми мы живя дышим, составляют основной фонд нашего существования. На нем, на этом фонде, могут уже строиться те или иные целевые установки.
Что такое счастье? Мы этого не знаем, но несомненно то, что в основе его лежит определенные для всех понятия и убедительные элементы: едва заметная улыбка любимого человека, смешок ребенка, его молниеносное шаловливое движение, дуновение ветерка и прочее.
Ценность этого ненужного определяется его отношением ни к частностям сегодняшнего дня и даже настоящей эпохи, а исключительно отношением к целому, именно к тому целому, которое определяет собой под внешней оболочкой никчемности, бросовости и ограниченности основное, стержневое, изначальное в нашей жизни.
С мимолетной улыбки встречного ребенка, от случайно брошенного взгляда на небо и плывущее на нем облачка, от молниеносно промелькнувшей свежести пронесшегося ветерка, мы инстинктивно, бессознательно тянемся через полосы безразличия, аффективной непросветленности, а часто и уныния, к следующему пустячку, мигу бытия, не осознавая при этом всех этих доносящихся монад.
Нам кажется, что настоятельно необходимо как в практическом жизненном, так и в философском смысле, вернуться к этим монадам, ибо только при учете их, при правильной и должной оценке их, возможно построить наиболее полное, адекватное жизни миросозерцание.
И если старое правило «остановись мгновение – ты прекрасно» имеет в виду большие и сильные переживания, то подобное же правило, подобное же восклицание, должно быть применено и ко многим, очень многим «пустячкам» и «мелочам», как призыв к осознанию их.
«Остановись мгновение – ты прекрасно», – это можно сказать только по отношению к моментам исключительного подъема, радости или просветления, сознания, что, конечно, в жизни встречается очень редко.
Однако, если мы обратимся к иной категории явлений, к моментам, когда мы полно, глубоко и при этом чаще радостно воспринимаем жизнь, то круг мгновений, которые желательно было бы остановить или хотя бы немного продлить, значительно расширится.
Можно говорить о насыщенном психизме некоторых мимолетностей – мельчайших крупиц, молекул бытия – ненужных, бесполезных, часто совершенно незаметных для окружающих. Иные из этих молекул могут по своей значимости превосходить весьма и весьма длительные отрезки времени, целые разделы жизни.
Ненужные вообще, с первого взгляда, при первом впечатлении, они представляются важными и существенными в каком-то ином плане. Пусть это лишь короткие, скоро преходящие переживания, лишь мимолетные миги, но они иногда знаменуют собой как-бы крупицы высшей слиянности с Космосом.
«… жизни божески-всемирной
Хотя на миг причастен будь!» (Тютчев).
«Иногда один луч солнца – говорит Гюго, – заставляет лучше понять мир, чем бесконечные размышления в пыльном кабинете перед открытыми книгами».
«Скромный садик, узкий горизонт чердака – отмечает в своем «Дневнике» Амиель, – заключают в себе для того, кто умеет смотреть и ждать, более поучительного, чем целая библиотека».
«Мы слишком озабочены, – говорит он далее, – слишком загромождены, слишком заняты, слишком деятельны! Надо уметь сбрасывать через борт весь груз своих хлопот, забот и педантства. Сделаться молодым, простым, превратиться в ребенка, жить настоящей минутой, быть благодарным, наивным и счастливым».
Мы различаем миги интимные и миги публичные. Часто нам более ценны именно миги интимные.
Вклейка:
[Толстой где-то подчеркивает значение тех словечек… условных выражений, которые существуют в каждой семье и имеют глубоко интимный характер, будучи совершенно непонятными для окружающих. Из этих «своих слов», – для меня, для нас двоих, троих, – из всего этого заостренно индивидуального созидается, как по [зеркалышкам], по крупицам, по атомам, подлинная реальность того, что мы ретроспективно, если бы пожелали в это вдуматься… элементами счастья.
Милые интимные словечки, прозвища, ласкательные и шутливые наименования, столь распространенные в интимном семейном или дружеском кругу среди любящих друг друга лиц, совершенно непонятные и чуждые для посторонних – сколько в них, в этих пустячках и ненужностях, эмоциональной насыщенности, какое важное, часто несознаваемо важное место занимают они в нашей жизни! Ведь упоминание иного такого, сохранившегося с детских лет и позднее забытого словечка может иногда в корне переродить человека, дать ему новую жизненную зарядку и остановить его на краю гибели.
Достоевский говорит об одном каком-либо, казалось бы, ничтожном воспоминании, которое может спасти человека на всю его жизнь.
Особенно важны эти крупицы бытия в раннем периоде нашей жизни.
«Первое наше жилище – говорит Патер, – становится постепенно как-бы вещественным святилищем и ковчегом наших чувств; ряд видимых символов входит во все наши мысли и страсти; мимолетные образы, голоса, незначительные происшествия, – наклон, под которым луч солнца падает утром на детскую подушку, – все это неизбежно делается звеном в той великой цепи, к которой мы прикованы».
«Малейшие случайности – говорит от дальше, – играют роль в ходе строения нашей души, того дома сознания, который, подобно воздушному гнезду, складывается в нечто прочное из летающих пушинок и соломинок.
Jam fuerit, nec post unquam revocare licebit.
(Миг улетит, и никто не вернет его снова).
Многое из интимного – самое нежное и самое дорогое, – официально, публично, – ненужное, да и не подлежащее этой публичности, оскорбительное для субъекта в случае официального обнажения этого интимного, – является внутренно самым важным, самым нужным. О чем вслух обычно не говорят, его осязательно нередко нельзя обнаружить, но в то же время оно является основным двигателем всего поведения человека. Все интимное – это почти на 100% ненужное.
«Я все больше – говорит Тагор, – ощущаю пустоту, образовавшуюся в моей жизни из-за постоянных отказов от легких радостей. Я вдруг понял, что из всей массы подавленных желаний громче всего кричат об удовлетворении именно те отвергнутые радости, которые вполне доступны. В то время как мы заняты погоней за неуловимой химерой, мы морим голодом нашу душу. И, может быть, придет день, когда я почувствую, что если бы можно было вернуть назад прошлое, я не стал бы снова гоняться за несбыточным, а постарался бы испить до дна ту чашу маленьких, нежданных повседневных радостей, которую преподносит нам жизнь.
К этим мимолетностям, составляющим как-бы атомы человеческого счастья, относится целый ряд крупиц бытия. Их так много и они так разнообразны, что их, конечно, и не перечесть.
Сюда, между прочим, должна быть отнесена улыбка. Мистика улыбки! Об этом мало говорят, а между тем, это играет значительную роль в жизни.
Ясная улыбка ребенка, загадочная улыбка Джиоконды. Улыбка зовущая, влекущая, что-то напоминающая, что никогда не может быть полностью раскрыто и разгадано, что всегда влечет своей таинственностью и ощущением невыявленного, негаданного счастья.
Радостная улыбка Богоматери (например, у Madonna della Sedia Рафаэля), благословляющая улыбка старца (например, умиленное, страдальческое, благостное лицо у старика на картине Рембрандта «Блудный сын». Хотя здесь и нет улыбки в собственном смысле этого слова, но есть несомненно элементы улыбки: улыбчивое восприятие жизни, ее радости и мудрости, ее трагизма.
«Легкость – говорит Цвейг, – последняя любовь Ницше, высшая мера вещей. То, что дает легкость, здоровье, – хорошо в пище, в духе, в воздухе, в солнце, в пейзаже, в музыке. Только то, что дает крылья, что позволяет забыть тупость и мрак жизни, уродливость правды – дарует благодать».
[В неучете этих мигов бытия] многое зависит от скверного привыкания, от развивающегося с годами выхолащивания из жизни чуда, от «обыденщивания» его (все естественно и понятно, окружающее таково, каким оно всегда было и должно быть» и прочее в том же роде.
Где-то (кажется, Рескин) говорит о том, что если бы мы видели звездное небо не ежедневно, а раз в десять-двадцать лет, какой восторг и благоговение вызывало бы в нас созерцание его.
«Действительное в наших впечатлениях – говорит Патер, – это короткий момент, убежавший прежде, чем мы его успели уловить; о нем вернее будет сказать, что он прекратился, а не то, что он есть.
К этому блуждающему огоньку беспрестанно вспыхивающему на поверхности потока, к единственному острому впечатлению, оставляющему привкус ушедшего момента, и сводится все, что есть действительного в нашей жизни.
В некоторых случаях много значит большая или меньшая неопределенность воспринимаемых нами впечатлений. Все неясное, неопределенное, как таящее в себе недовершенность и какие-то скрытые возможности, приобретает в силу этого исключительную, заманчивую привлекательность.
Розанов тонко замечает, что запах корочки хлеба куда приятнее и острее, нежели вкус. Точно так же отдаленный свисток паровоза больше волнует, чем сам поезд и езда в нем.
Ощущения, с которыми легко связываются свободные ассоциации, создают большее эмоциональное напряжение, чем те, при которых ассоциации строго детерминированы. Здесь шевелятся комплексы прошлого, главным образом раннего детства.
Там же, где четкость, там выступает прагматизм, узко ограниченный целевой установкой.
Есть формы ненужного – случайные, нехарактерные, но есть и такие, которые более характеризуют данное явление, нежели многое из того, что относится к сфере необходимого, нужного, важного. Так, художник, зорко отмечая незаметные для окружающих мелочи, улавливает тем самым наиболее важное, характерное для данного лица или для данного явления то, что скорее и полнее всего способствует пониманию этого лица или этого явления.
Искусство уделяет всем этим крупицам бытия значительно больше внимания, нежели наука. Искусство в значительно большей мере, нежели наука, охватывает область ненужного, бесполезного. Оно расширяет сферу нашего знания и опыта на многое из того, что ненужно и бесполезно.
Некоторые художники посвятили всю свою художественную деятельность только передаче мимолетностей: все монументальное, стойкое их меньше всего привлекает. Так, у некоторых тосканских художников эпохи Ренессанса вся сущность искусства сводилась, по словам Патера, к улавливанию «мимолетной улыбки на лице ребенка, волнообразного движения ветерка в тихий день на занавеске полуоткрытого окна и прочем в том же роде.
Однако область мимолетного в жизни значительно шире уже по одному тому, что в искусстве нет места случайному, оно передает лишь все характерное, определяющее собой саму душу вещей. Искусство в этом смысле ограничено, так как касается лишь типичного или главным образом красивого и в значительной мере не охватывает индивидуального.
Вообще индивидуальное не находит себе места ни в науке, ни в искусстве. Поэтому оно исчезает, распыляется. Следует отметить нивелирующее влияние слов и определить первый этап [уничтожения] всего индивидуального.
Ненужное может быть эстетически и морально безразличным. Таким образом, не только все научное, но и все эстетическое и моральное не покрывают собой целиком область ненужного.
В этом остатке, помимо действительно лишнего, досадно мешающего жить, а также пустого, бросового, есть все же многое, от чего становится теплее и уютнее. Если тепло и уют – понятия морального и эстетического порядка, то тогда, конечно, и эти виды ненужного могут быть тоже зачислены в ту же категорию.
«У меня фетишизм мелочей» – признается Розанов, отмечая этим одну из важнейших сторон своих интересов.
Большинство такого рода мелочей остается в стороне от искусства и от практических запросов повседневности. Ими также не интересуется наука.
Эти беспризорные, неприкаянные крупицы наших переживаний занимают, однако, если к ним внимательно присмотреться, весьма и весьма значительное – пожалуй, даже наиболее значительное место в нашей жизни.
«И падение листа – говорит Карпентер, – и поклон проходящего будут для тебя важнее, чем мудрость всех книг, когда-либо писанных, и этой моей книги, в частности.
Стендаль, по мнению Цвейга, – в минимуме восприятия видит залог величайшей истины.
«Почти вся наша жизнь – говорит Бодлер (Мое обнаженное сердце: Дневник), – уходит на потаенные пустяки. Как в отместку за это, вещи, способные пробудить в нас самый глубокий интерес, рассматриваемые с точки зрения обыденности, утрачивают эту способность.
«Жизнь – говорит Ницше, – состоит из редких единичных мгновений высочайшего значения и из бесчисленного многих интервалов, в которых, в лучшем случае, нас окружают лишь бледные тени этих мгновений. Любовь, весна, каждая прекрасная мелодия, горы, луна, море, – все это лишь однажды внятно говорит сердцу – если вообще когда-либо внятно говорит. Ибо многие люди совсем не имеют этих мгновений и суть сами интервалы и паузы в симфонии подлинной жизни.
«Большинство людей – говорит Оскар Уайльд, – суть не они сами. Их мысли – мнения других, их жизнь – подражание, их страсти – цитата.
Эмерсон прав, когда говорит, что «ничто так редко не встречается… как самостоятельный поступок».
Ненужное не есть непременно безделие, оно может быть и деятельностью, только не подневольной. В нем больше всего находит себе место та форма переживания, которая в значительной степени все более утрачивается современным человеком, в противоположность человеку отдаленного прошлого (египтянину, индусу, античному греку, которым она была очень близка и привычна). Мы имеем в виду чистое созерцание, как особую форму переживания, в отличие от вопрошания, являющегося началом всей научной и технической деятельности.
Примером ненужности в современной жизни некоторых из тех состояний, которые когда-то, в прошедшие исторические эпохи, имели очень большое значение, может служить созерцательная сторона нашей жизни.
Ненужное есть то, что связано непременно с нашими мало осознаваемыми переживаниями. Наиболее для нас ценным является то, что рождается у нас на фоне ясного сознания, вызывая в нас радость, умиление, восторг.
Значение этого ненужного и вместе с тем повседневного особенно резко выступает в некоторых видах искусства. Так, фламандская школа живописи является одним из ярких выражений влюбленности в мировую вещественность, и, что особенно характерно, не естественность вообще в ее большом космическом масштабе, а влюбленность в вещественность мелких предметов повседневности, часто даже тех жизненных пустячков, безделиц, мимо которых мы обычно проходим равнодушно, не замечая их. Об этом отсутствии пристального внимания к мелочам жизни напоминают нам фламандские художники. Они со своих изумительных полотен как-бы кричат нам во весь голос о красоте повседневных мелочей, овощей, плодов, сочного свежего мяса, зелени, искрящихся на солнце бокалов, рюмок, простых глиняных чашек и прочего, о значительности всех этих крупиц в построении того большего всеохвата, который именуется радостным восприятием жизни, радостью прямого, непосредствненного, заключенного среди этих мелочей бытия.
Фламандские художники – это люди, влюбленные в мимолетности жизни, любовно радующиеся ее мелочам и находящие удовлетворение в мельчайших крупицах бытия, скоро преходящих красочных сочетаниях предметов самой непосредственной обыденщины.
О скромности… в жизни наиболее значительного, важного, говорил еще Платон в своем диалоге «Федр»: «В здешних (то есть земных) подобиях справедливости, рассудительности и других для души драгоценных благах, – говорит он, – вовсе нет блеска. Приступая к образам с тусклым своим орудием (Платон имеет в виду наши органы чувств), немногие, – и то с трудом, – созерцают истинный род отражающегося в этих образах.
В условиях повседневной озабоченности, напряженной суеты и деловитости сегодняшнего дня, нередко совершенно обесценивается и аннулируется значение в нашей жизни переживаний данного отрезка времени, данной минуты (значение «сегодня» и особенно того, что переживаем сейчас), так как это «сегодня» и это «сейчас», чаще всего, окрашиваясь тоном предшествующих настроений и переживаний или ожиданием будущего, совершенно теряют всю свою глубину и всю свою насыщенность.
Мы говорим «пустячки» и «мелочи», употребляя это выражение в кавычках, ибо если для ясных целевых установок сегодняшнего дня они действительно являются пустяками, то для какого-то иного, более общего плана, в котором протекает наше существование, они являются самым насущным, самым необходимым.
«Когда присматриваешься, как отдельные люди умеют обращаться с своими переживаниями, – говорит Ницше, – с самыми незначительными повседневными переживаниями, то чувствуешь потребность разделить человечество на меньшинство (минимальное меньшинство) людей, которые умеют из малого делать многое, и на большинство людей, которые из многого умеют делать малое: более того, иногда встречаешь таких волшебников навыворот, которые, вместо того, чтобы создавать мир из ничего, создают из мира ничто».
Все подлинно прекрасное всегда скромно, часто даже незаметно (отсюда часто ненужно), например, запущенный уголок сада весной…
В одном стихотворении Гете муза вопрошает Зевса: почему прекрасное скоротечно?» А Зевс отвечает: «Потому, что скоротечное – прекрасно»
«Очаровательное ничто» – как определил Гете некоторые элементарные ощущения, например, ощущения синяго цвета.
В связи со всей выдвигаемой нами ролью в жизни этих крупиц, казалось бы ничтожных мелочей бытия, всплывает во всей своей значимости проблема праздности. Само собой разумеется, что, говоря о праздности, мы не имеем в виду пустое бездействие.
Это, конечно, не та норма праздности, о которой остроумно говорит Монтень. «Надобно было бы – говорит он, – включить в муки ада вечную праздность, а ее-то, напротив, поместили среди радостей рая».
Мы не имеем в виду то, что можно назвать осмысленной праздностью, осмысленным безделием.
Среди немецких романтиков Фридрих Шлегель в своей известной «Люцинде», в главе об «идиллии праздности» восторженно восхваляет праздность, как источник поэзии и мудрости. «Только в спокойствии и умиротворенности, – говорит он, – в священной тишине подлинной пассивности, можно вспомнить обо всем своем «я» и предаться созерцанию мира и жизни».
В лености он усматривал единственный «богоподобный отрывок», определенный человеку. В этом смысле она представляется деятельной праздностью или какой-нибудь трудолюбивой бездеятельностью. Это неделание только в смысле жизненного прагматизма.
Римляне выдвигали понятие о «благородной праздности» (Otium cum dignitale). Известное итальянское выражение Dolce far niente – «сладкое ничего не делание», – подчеркивает весьма распространенное положительное отношение к этому «ничего не деланию».
Некоторые формы лени делают человека даже более привлекательным в моральном отношении, проявляясь… на фоне…его суетливо… мелкой деловитости. В этом смысле прав Блок говоря, что «лень современного человека все же облагораживает».
Не всякое безделье положительно и дает удовлетворение. Только деятельное безделье радостно. Деятельность такого безделья складывается из созерцательных переживаний при отсутствии, во-первых, озабоченности (стало быть, обязательности, навязанной извне плановости) и во-вторых, – стереотипии этих переживаний.
Во всех видах труда больше всего угнетают озабоченность и стереотипия.
«Возлюби праздность безмолвия» – говорит Исаак Сирин, – предпочтительно насыщению алчущих в мире».
Ученые, по мнению Ницше, стыдятся досуга. «Но досуг и праздность есть благородное дело. Я надеюсь, вы не думаете, что, говоря о досуге и праздности, я имею в виду вас, ленивцы?».
«Надо уметь быть праздным, – говорит Амиель, – что не значит ленивым. Во внимательном и сосредоточенном бездействии складки нашей души сглаживаются, она расправляется, развертывается и по-тихоньку оживает, как стоптанная трава у дороги и как поврежденный лист растения восстанавливает свой ущерб, становится опять новой, самобытно правдивой, оригинальной. Мечтание, как ночной дождь, заставляет вновь зеленеть усталые и поблекшие от дневного жара мысли. Нежное и плодотворное, оно будит в нас тысячи заснувших зародышей. Оно шутя накопляет материал для будущего и образы для таланта».
Мечтание есть праздник мысли, и, кто знает, что важнее и плодотворнее для человека, – напряженная ли работа недели или оживляющий отдых дня субботняго?
Беззаботная праздность так умно восхваленная и воспетая Топфером не только приятна, но и полезна. Это – целительная ванна, которая придает силу и гибкость всему существу, как душе, так и телу, это признак и праздник свободы, это радостный и целительный пир, пир бабочки, резвящейся и кормящейся в долинах и лугах. А душа в сущности – та же бабочка.
В литературе и в философии существуют, как известно, течения, восстающие против избытка современной деятельности, деловитости и проповедующие определенные формы неделания.
Ненужное и неделание довольно близкие друг-другу понятия, так как провозглашение неделания является протестом против того, что принято считать самым нужным и важным, а с другой стороны – оправданием многого из того, что принято считать ненужным.
Говоря о неделании, мы протестуем против общераспространенной несбыточной внешней деятельности, имея при этому в виду не пустые временные интервалы, а внешне незаметную внутреннюю деятельность.
Большинство окружающих людей умственно не заняты и поэтому имеют очень много внутреннего досуга. Этот досуг они чаще всего пытаются заполнить большей или меньшей внешней деятельностью (деловитостью), то есть, по существу, моментам, основанным на готовых навыках. В результате этого значительная часть так называемых деятельных людей – это деятельные бездельники.
Очень интересна проблема этой внутренней бездеятельности как источника целого ряда явлений отрицательного порядка в жизни и развития индивидуума.
Простое созерцание – непредубежденное, первичное, – выше наук и искусств.
«Много досужих дней – говорит Тагор, – провел я, сокрушаясь о потерянном времени. Но никогда не теряется оно, Господи. Ты принимал в руки свои каждое мгновение жизни моей.
Необходимо, по-видимому, наряду с научной организацией труда (то, что у нас известно под именем НОТ), серьезно подумать и о научной организации праздности. Собственно говоря, статья Толстого «О неделании» уже говорит об этом, если не научной, то философской организации праздности, о философском неделании.
В этой статье Толстой приводит мнение древнего китайского философа Лаодзи, который утверждал, что все бедствия людей происходят не столько от того, что они не сделали того, что нужно, сколько от того, что они часто делают то, чего не нужно делать. И поэтому люди, по мнению Лаодзи, избавились бы от многих бедствий личных и в особенности многих общественных, если бы они соблюдали «неделание».
Эта апология праздности встречается весьма часто у многих философов и поэтов-писателей, особенно вдумчиво относящихся к происходящему.
Апология безделья нашла себе наиболее яркое выражение у Розанова, декларировавшего ее в свойственной одному ему заостренно-парадоксальной форме:
«Народы, хотите-ли я вам скажу громовую истину, какой вам не говорил ни один из пророков…
– Ну? Ну?.. Хх…
– Это – что частная жизнь выше всего.
– Хе-хе-хе!.. Ха-ха-ха!.. Ха, ха!..
– Да-да. Никто этого не говорил: я – первый!… Просто сидеть дома и хотя-бы ковырять в носу и смотреть на закат солнца.
– Ха, ха, ха…
– Ей-ей: это – общее религии… Все религии пройдут, а это останется: просто – сидеть на стуле и смотреть вдаль (Розанов. Уединенное).
В этом смысле слово «безделье» имеет значение не простого отрицательного понятия (простого вычитания, минус-феномена), а представляется понятием, тоже наполненным содержанием, только иным, необычным, не тем, что обозначается противоположным термином «дело»; и вот это иное содержание нередко бывает более значительным и жизненно нужным.
«Жизнь, – пишет Чехов, – расходится с философией: счастья нет без праздности, доставляет удовольствие только то, что не нужно».
«Прирожденные аристократы духа не слишком усердны – говорит Ницше, – их творения возникают и в спокойный осенний вечер падают с дерева без того, чтобы их страстно желали, взращивали или вытесняли новым. Неустанное желание творить вульгарно и свидетельствует о ревности, зависти и честолюбии. Если человек есть нечто, то он соответственно не должен ничего делать – и делает все же весьма много. Существует порода высшая, чем «производительный» человек».
Острое осознание жизни, своего существования, возможно или на высоте творчества, или на высоте «неделания». Все промежуточные стадии тусклы и малосознательны.
Отсюда вытекает необходимость упражняемости в «неделании» (нужно научиться хорошему «неделанию»).
Это есть та форма сосредоточенной созерцательности – осознание самого себя и окружающего мира, наряду с уходом от суетности, который так горячо рекомендовал Лев Толстой в своей статье «О неделании».
«Леность – говорит Оскар Уайльд, – главное условие совершенства. Цель совершенства – юность».
Библейское: «воззрите на птицы небесные или же на полевые мыши», – это [протест] против прагматизма жизни, возврат к бесцельному и ненужному.
Ненужное в широком смысле включает в себя красоту. Однако мы берем крупицы, часто не представляющие ценность в смысле заложенной в них красоты, но тем не менее, обнаруживающие свойства душевного тепла, иногда уюта.
Сюда также не входит область просто [лишнего, загромождающего жизнь].
Ненужное надо отличать от лишняго. Лишнее мешает жить, ненужное, выходя только за узкие рамки потребностей чаще всего лишь сегодняшнего дня, помогает жить.
В жизни бесконечно много нагромождено лишняго и, что всего обиднее, никакой опыт прошлого как-будто не способствует тому, чтобы научить человечество устранять на своем пути это лишнее. Сколько лишней траты драгоценного времени (драгоценного для подлинной радости жизни! Какое неимоверное нагромождение страдальчества (лишняго страдальчества), стало опять создаваться помимо того, которое волей-неволей приходит в связи с слепыми случаями жизни.
Детство и старость, сравнительно менее захваченные прагматизмом, уделяют значительно большее внимание мелочам повседневности, [оттого] все домашнее, интимное, иногда минутно прекрасное, радостное, больше выступает в этом возрасте на первый план.
Объем милых ненужностей, мимолетностей и интенсивность их воздействия с возрастом все более суживается и не под влиянием… этого возрастного момента (по примеру, скажем, сужения диапазона восприятия слуховых ощущений, осуществляющегося с возрастом), а, главным образом, под влиянием наростающего прагматизма, суетливой деловитости жизни. А ведь по существу многое из этого ненужного представляет собой, пожалуй, самое нужное в жизни, так как больше всего привязывает нас к ней, непосредственно и стихийно, помимо всякой логики (формула Алеши Карамазова: «жизнь полюбить больше смысла ее» покоится, в конце концов, больше всего на «клейких листочках», о которых говорит Иван).
Только отдельные просветы напоминают о том, что существует какая-то большая, бесконечно радостная, при условии ее пристального осознания жизнь. Вот на этих просветах, прорывах «из царства необходимости в царство свободы» необходимо остановить свое внимание.
С точки зрения жизненного прагматизма, особенно прагматизма сегодняшнего дня, почти все это относится к категории ненужного.
В противоположность Джемсовскому прагматизму следует провозгласить непосредственную реальную ценность многого из ненужного и его нередко ведущую роль в иных «больших», прагматически построенных нормах нашего поведения.
Омар Хайям справедливо говорит в одном из своих стихотворений:
«От жилищ неверья лишь одно мгновенье
К знанию вершин;
И от тьмы сомненья к свету уверенья
Только миг один».
И отсюда он делает вывод:
«Познай же сладость – краткой жизни радость
В мимолетный час:
Жизни всей значенье – только дуновенье,
Только миг для нас.
Само по себе внимание к мелочам нельзя, конечно, смешивать с мелочностью, суетностью, несерьезным отношением к жизни.
Серьезность – это игнорирование малозначительного, замечание лишь главного. Настоящая, а не кажущаяся серьезность – это замечание всего характерного и поэтому важного.
Однако, для настоящей серьезности нет ничего бросового. Она может, вследствие сосредоточения на главном, многое игнорировать, не замечать, но по существу не пренебрегать на столько, чтобы совершенно обесценивать.
С другой стороны, за унылой, показной серьезностью часто скрывается внутренняя пустота – отсутствие подлинного интереса как к главному, так и к малозначительному, общая невнимательность к жизни.
Собственно говоря, все то, что мы называем нужным, это по преймуществу лишь непосредственно заметное, бросающееся в глаза, тога как все стержневое в нашей жизни осуществляется обычно тихо, скрытно, за пределами этого нужного в виде основного ведущего фона и поэтому является для обыденного сознания незаметным, а следовательно, и ненужным.
Иногда эти мелочи жизни служат толчком для больших, жизненно важных дел. «Разве это не всегда так – говорит Анатоль Франс, – что малые вещи побуждают нас творить большие?».
Это ненужное и бесполезное не нужно [только] современному человеку, именно тому человеку, о котором говорил Блок: «Того, что называлось людьми – говорит он, – бог давно уже не бережет, природа давно не холит, искусство давно не радует. И само то, что прежде называлось людьми, давно ничего не просит и не требует ни у бога, ни у природы, ни у искусства».
«В настоящее время – писал некогда Рескин, имея в виду современное ему английское общество, – создана громадная категория людей, совершенно потерявшая всякую способность к благоговению и самое представление о нем. Эта категория людей поклоняется только силе, не видит прекрасного вокруг, не понимает высокого над собою, ее отношение ко всякой красоте, ко всякому величию – отношение низших животных: страх, ненависть и вожделение; в глубине своего падения она недоступна нашим призывам, численностью своей превышает наши силы: ее нельзя очаровать как нельзя очаровать ехидну, нельзя дисциплинировать, как нельзя дисциплинировать муху».
Современность – суровый цензор – безжалостно вычеркивая из жизни целые страницы и бросая их в сорный ящик, как ненужное и бесполезное, она создает наряду с этим новые формы нужного, которые при ближайшем рассмотрении часто являются лишь «видимостями», пустой формой, лишенной подлинного жизненно-ценного содержания. Мы же, если только хотим свободно и сознательно подойти к жизни, должны будем, подобрав эти выброшенные страницы, снова их пересмотреть с точки зрения на этот раз уже общих, извечных проблем (Sub specie aeternitaris), а не только с провинциальной точки зрения сегодняшнего дня.
«Так как недостает времени для мышления и спокойствий в мышлении – говорит Ницше, – то теперь уже не обсуждают несогласных мнений, а удовлетворяются тем, что ненавидят их. При чудовищном ускорении жизни дух и взор приучаются к неполному или ложному созерцанию и суждению; каждый человек подобен путешественнику, изучающему страну и народ из окна вагона. Жалоба, подобная только что пропетой, будет, вероятно, иметь свое время и некогда сама собой смолкнет, при могущественном возрождении гения созерцания…
Никогда – продолжает Ницше, – деятельные, то есть беспокойные, не имели БОЛЬШАГО влияния, чем теперь. Поэтому, к числу необходимых корректур, которым нужно подвергнуть характер человечества, принадлежит усиление в очень большой мере созерцательного элемента».
«Жизнь и профессия несовместимы – говорит Блок: – чем меньше жизнь, тем больше успеваешь в профессиональном отношении и наоборот».
Это столь распространенное деловое, профессиональное искажение жизни, при котором устанавливается узко выборочный подход к жизненным явлениям, утрачивается как целостность ее восприятия, так и значение ее отдельных мигов, что очень хорошо отметил в свое время Чехов.
В пьесе «Чайка» писатель Тригорин в ответ на второстепенное замечание Нины Заречной о том, что его жизнь как писателя должна быть особенно прекрасна, полна значения, с горечью признается:
«Что же в моей жизни особенно хорошего? День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль: я должен писать, я должен писать, я должен… Едва кончил повесть, как уже почему-то должен писать другую, потом третью, потом после третьей четвертую… Пишу непрерывно, как на перекладных, и иначе не могу… О, что за дивная жизнь» Вот я с вами, я волнуюсь, а между тем каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть… Ловлю себя и вас на каждом слове и спешу скорее запереть все эти фразы и слова в свою литературную кладовую: авось пригодится! Когда кончаю работу, бегу в театр или удить рыбу, тут бы и отдохнуть, забыться, ан-нет – в голове уже ворочается тяжелое, чугунное ядро: новый сюжет и уже тянет к столу и надо спешить опять писать и писать. И так всегда, всегда и нет мне покоя от самого себя, и я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который я отдаю кому-то в пространство, я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы и топчу их корни».
Эту же мысль в несколько ином плане развивает и Цвейг, касаясь уже высших форм целенаправленной (профессиональной) деятельности.
«Таков вечно преследующий нас рок, когда мы стремимся увековечить себя и действуем за пределами настоящего, мы тем самым отнимаем у настоящего часть его жизненности: отдавая внутреннюю энергию делу сверхвременного, мы грабим беззаботное наслаждение жизнью».
Искусство вообще обращается лицом к ненужному, уделяет ему внимание. Однако и здесь, наряду с основным, универсальным, возможны и отдельные крупицы, как скоропереходящие молекулы бытия, которые остаются вне внимания художника.
В искусстве одним из гениальных мастеров «минуты», скоропереходящего, является Рембрандт. «Все свои образы – справедливо говорит о нем Бенуа, – Рембрандт выхватывал из окружающего, все у него живет для данного случая, родилось для данной мысли. Его искусство вылилось их тайников его творческой силы, но облеклось в те формы, которые давала ему видимость, самая обыденная обыденность».
НЕНУЖНОЕ часто обнаруживает как раз то, что скрывает от нас деловитая «нужность» повседневности, то подлинное, ядерное, что дает возможность осознать истинное существо мира.
Художник, в значительно большей мере лишенный того прагматизма, который свойствен всем деловым людям, легче может воспринять эту сущность бытия. Блок справедливо говорит:
«Жизнь – без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами – сумрак неминучий
Иль ясность Божьяго лица.
Но ты, художник, твердо веруй
В начала и конца. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрашной мерой,
Измерить все, что видишь ты.
Твой взгляд – да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты –
И ты увидишь: мир прекрасен».
Это думал и писал Блок тоже в отдельные моменты, в отдельные миги своего существования. Сплошного или хотя бы длительного ощущения, что «мир прекрасен», ясного осознания этого, у него, конечно, как и у каждого из нас, не было, ибо и он тоже был дитя суеты и суетности поведения.
В некоторых случаях эти миги радости являются результатом предшествующих им длительно переживаемых страданий. Оскар Уайльд в одном из своих замечательных стихотворений в прозе под названием «Художники» прекрасно представляет эту… радости, длящейся мгновение, а явившейся результатом длительных страдальческих переживаний.
«На самом деле человеку – говорит со свойственной ему замечательной непоследовательностью Розанов, – и до всего есть дело и – ни до чего нет дела». Этим определяются, с одной стороны, общие интересы человека, его внешняя деятельность, с другой – самодовлеющая ценность отдельных моментов крупиц его бытия, когда ему в сущности «ни до чего нет дела».
Некоторые события нашей жизни наталкивают нас на осознание нами ценности этих «крупиц бытия». Так, иногда болезнь и связанная с ней прикованность к постели (в тех, конечно, случаях, когда при этой болезни сохраняется полная ясность осознания) невольно вызывает у нас созерцательное настроение.
«Человек, который болен и лежит в постели – пишет Ницше, – приходит иногда к заключению, что обычно он болен своей службой, занятием или своим обществом и из-за этой болезни потерял всякую рассудительность в отношении самого себя: он приобретает эту мудрость благодаря досугу, к котрому его принуждает его болезнь».
«Известная односторонность, торопливость, утрата равновесия – говорит Эмерсон, – это налог, уплачиваемый всякой деятельностью. Покажите мне человека, – говорит он далее, – который действовал бы и не стал жертвой и рабом своей деятельности».
В технике в настоящее время справедливо уделяется большое внимание тому, что носит название «культура детали» (тщательной отделки мелких, казалось бы, не столь существенных частиц, входящих в виде детали в тот или иной механизм). В ряде специальных работ приводится мысль о том, что нельзя говорить только о большом и значительном и что это большое и значительное всегда зависит от «культуры деталей».
Серьезное и бережное отношение к многому из того, что в атмосфере сегодняшнего дня считается ненужным и бесполезным, тоже относится к культуре деталей. Вместе с тем, шлифовкой этих деталей связано то, что принадлежит к категории «орнаментизации жизни».
«Орнаментизация жизни», непрерывное претворение косного и аморфного в человечески одухотворенное это то, что долино пронизывать жизнь в ее человеческом преломлении. «Красота спасет мир», – проникновенно говорил Достоевский.
Не только отдельные лица, но и народ в целом, народное сознание, тяготится утилитаризмом и прагматизмом жизни, противопоставляя ему общественно малоценное, но, по мне нию народа, настоящее, наиболее важное. Таковы все варианты сказки об Иванушке-дурачке, в которых все симпатии на стороне житейски непрактичного, прагматически малоценного и ненужного. Такова апология (святость) оторванности от жизни, юродства. Ведь юродство, в противоположность христианскому подвижничеству, есть неделание.
Ненужное здесь, становится нужным где-то в ином аспекте. Сюда же, к этой категории надо отнести и столь милые и близкие широким массам народа евангельские советы: «Воззрите на птицы небесные, которые не сеют и не жнут, воззрите на полевые лилии», как выражение святости ненужного в глазах народа.
Ненужное в практическом отношении представляется нередко весьма нужным в познавательном , ненужное в познавательном – нужным в эстетическом, моральном, религиозном.
Конечно, и ненужное тоже может бать как реальным, так и не-реальным. Однако, в области ненужного не-реальное занимает весьма значительное место – пожалуй, больше, нежели реальное, и во всяком случае значительно большее, чем это имеет место в сфере нужного.
Есть, по-видимому, две правды: «большая правда» и «малая правда». «Малая правда» – это правда сегодняшнего дня. Она, конечно, всегда стоит в каком-то отношении к большой правде (иначе она не была бы правдой), однако здесь нет непосредственного отношения, а имеется отношение лишь непрямое, косвенное, и это составляет весьма характерную черту «малой правды» (или, вернее, «малых правд», ибо их много).
Большая правда часто познается непосредственно. В мелочах, мигах, отдельных [периодах] нашего существования улавливается эта «большая правда», – значительно чаще, нежели в чем-либо другом, то изначальное и стержневое, что обычно бывает заглушено и задавлено (отодвинуто куда-то далеко на задний план) в условиях интересов («малых правд» и «неправд» сегодняшнего дня.
В связи со всем сказанным выше встает и основной вопрос о природе человеческого счастья.
Мы подымаем вопрос о молекулярной структуре человеческого счастья. Хотя, говоря о счастье, ожидая его, мы мыслим себе нечто сплошное, целостное и непрерывное, однако в жизни оно обычно ощущается и переживается нами лишь в форме отдельных, более или менее ярких моментов, событий, кратковременных мигов, и только в воспоминаниях, в абберациях последующих реминисценций, мы в аспекте сравнительной оценки отдельных временных периодов запоздало оцениваем длительные отрезки времени как наиболее счастливые в нашей жизни.
Но ведь важно не то, как это счастье нами воспринимается, ибо воспоминание есть уже нечто другое, значительно более бледное, а как оно непосредственно нами переживается.
«Мотыльки и мыльные пузыри – пишет Ницше, – и те, кто больше всего похож на них среди людей, больше всего знают о счастье».
Эту кратковременность, мимолетность переживания счастья хорошо определяет Чехов.
«Для ощущения счастья – говорит он, – обыкновенно требуется столько времени, сколько его нужно, чтобы завести часы».
Нужно заметить, что молекулярность вообще свойственна самой природе человеческой психики. Хотя наша психическая жизнь в своем бодрствующем состоянии непрерывна, однако в переживании как отдельные миги, так и целые возрастные периоды воспринимаются нами как обычная… нередко отрываются друг от друга, приобретая даже иногда характер чуждости.
В переживании этих отрывков, мигов, часто теряется представление о начальных и конечных моментах. Невольно вспоминается Блоковское: «жизнь без начала и конца». Вернее – начала и концы часто находятся вне области непосредственного восприятия, это те ультрафиолетовые и ультракрасные разделы, которые находятся за пределами видимой части спектра. А видим мы и непосредственно ощущаем лишь миги, временные отрезки, связанные с теми или иными событиями, отдельные возрастные переходы.
Эти молекулы не представляют собой, конечно, каких-то совершенно обособленных частиц – стало быть, они не построены по механистическому принципу атомистики, дробности, а, охватываясь единым целостным мироощущением, представляют собой лишь отдельные этапы, вспышки, на фоне этого сплошного, до времени [скрытого] мироощущения.
Прерывистые моменты, возникающие на фоне сплошного, непрерывного, дают эмоциональную зарядку этому непрерывному, а с другой стороны – и сами диктуются этим непрерывным.
Главной помехой острого восприятия этих молекул счастья служит, с одной стороны, иссушающая и духовно принижающая роль жизненной озабоченности, а с другой – печальная сухость возрастного характера – надвигающейся старости.
Уже приведенная выше цитата из Чехова («счастья нет без праздности») говорит о взаимоотношении между определенной формой досуга и счастьем.
«В мире – говорит Ницше, – находится гораздо больше счастья, чем сколько видят мутные глаза: именно, если уметь правильно считать и не забывать о всех тех моментах небольшой радости, которыми богат каждый день каждой, даже самой угнетенной человеческой жизни».
То, что определяет Ницше общим понятием как «дух тяжести», больше всего препятствует переживанию счастья, а также в целом всему тому, что мы обозначаем, как ненужное.
В состав этого «духа тяжести» входит постоянно испытываемое нами давление на нас прошедшего (воспоминания, опыт в мирском его понимании), отчасти и нажим со стороны ожидаемого будущего.
В противоположность этому, счастье чаще всего а-исторично, то есть лишено учета прошлого, вернее, давления со стороны этого прошлого и давления со стороны будущего, так как оно чаще всего одномоментно.
Однако при средней степени забвения и вытеснения, в основе всегда избирательных, возможно и длительное сохранение той меры душевного равновесия, бодрости, которая стоит уже в известном смысле на грани, если не с явлением счастья, то с явлением стойкого оптимистического мировосприятия, что уже близко к переживанию счастья.
Большее, длительное, сплошное счастье, особенно социального порядка – понятие в значительной мере утопическое. «Слишком долго оценивали люди человеческую гармонию, – говорит Достоевский устами одного из своих героев, – не по карману платить»…
…Конечно, говоря о молекулярной структуре счастья, мы имеем в виду наиболее частую его форму. Наряду с этим отмечаются и более или менее длительные счастья – счастье как фон (или как фонд, на котором созидаются многие [переживания]), однако такие длительные состояния чаще всего не осознаются как таковые, отмечаясь лишь в случаях нарушения их, то есть опять-таки в последующей интерпретации и последующих воспоминаниях.
Такого рода представление о преобладающей роли отдельных мигов имеет значение не только в области человеческого счастья, но и во многих других наших переживаниях – например, в широкой сфере эстетических и моральных переживаний, ведь, сравнительно редко встречаем в человеческой жизни длительно моральное или длительно красивое, но зато очень часто видим прекрасные моральные миги, поступки, действия, красивые позы, жесты, движения.
Все моральное в неизмеримо большей мере, нежели эстетическое, проявляется лишь в динамике, в процессе непрерывных изменений, так как моральное ограничивается лишь сферой человеческого, в то время как эстетическое касается и неодухотворенной природы и поэтому может быть и статично.
Определение счастья как явления молекулярного порядка, естественно, встречает возражение. Ведь эта форма понимания счастья, как отдельных мигов, молекул, частиц – есть результат уже подрезанных крыльев… итог жизненного опыта, а молодости хочется другого – она жаждет впереди, в будущем, необъятного, целостного, сплошного и длительного счастья, верит в возможность осуществления его и поэтому вряд ли удовлетворится этими «драхмами» и «скрупулами». Ну что ж! Вернемся лучше к реальности и будем довольствоваться тем, что эта реальность нам дает.
С мелочами больше всего связано ощущение тайны мироздания, глубокого, недоступного нам, смысла всего окружающего, тогда как в условиях обычного, целостного жизненного процесса с его конкретными жизненными установками это чувство тайны чаще всего не испытывается нами и поэтому не переживается.
Космическое сознание отнюдь не представляет собой нечто, связанное с общением с природой, с экстатическими переживаниями ее красоты.
Нередко многое глибоко интимное, иногда даже маленькое, случайное и мимолетное, в жизни подымается до высоты основного, извечного, стержневого, до высоты космической значимости. Есть космичность и в мимолетном смехе ребенка, и в легком дуновении ветерка, и в тех неуловимых флюидах, крюпускулах и атомах бытия, которыми полна жизнь.
Пафос тайны. Мы его утратили. Иногда кажется: мимо маленького, мимо тепленького – надо смотреть поверх его в космическое. А теперь я думаю: через маленькое, через тепленькое (ювелирность обыденщины) в широкий свет беспредельных перспектив.
Приобщение к космическому не помимо, а через крупицы и атомы бытия, мимолетные флюиды психически насыщенного содержания жизни. Такова должна быть подлинная философская (стало быть, внимательная) установка психики.
Все нужное монументально или во всяком случае стремится занять важное и полноценное место в жизни; ненужное мимолетно, филигранно, молекулярно. Это скрупулы, пылинки бытия, мимо которых мы обычно проходим. Именно МИМО.
А не значит ли это в конечном итоге пройти мимо всю жизнь?
Надо по-новому пересмотреть и переоценить это «мимо», то есть все то, что мы часто высокомерно, а иногда тупо серьезно, а иногда легкомысленно-беспечно игнорируем, просто не замечаем в себе самих и в окружающих.
С точки зрения большого углубленного и просветленного понимания все мы – разные люди, конечно, в разной степени – в значительной, можно сказать подавляющей мере, прозевываем жизнь.
И в этом отношении узость нашего повседневного внимания, узость адаптации, ограниченность пределов того, что мы привыкли считать нужным, играет доминирующую роль.
Пользуясь выразительным и лаконическим немецким словообразованием, можно… по аналогии с термином Vorbeireder – речь мимо, речь невпопад, некстати, – охарактеризовать преобладающее большинство нас как Vorbeilebende Menscher, – мимо живущих людей, людей, прозевывающих жизнь.
В самом деле, где-то в стороне, рядом с нами, проходит большая и серьезная, настоящая жизнь, полная глубоких тайн, взывающая к космическому осознанию и часто порождающая космическую радость, а мы, люди с уплощенным пониманием, незнайки и неумейки, усвоившие себе общераспространенное, вульгарное представление об универсальности только популярно научных объяснений и толкований, с важным видом копошимся где-то в стороне от этой жизни, в суетливой и суетной обстановке мышиной беготни обыденщины.
«Если перевести на время – говорит Эмерсон, – то в пятьдесят лет у нас едва ли насчитается полдюжины разумно прожитых часов».
«Только посмотреть на жизнь, ведомую людьми в нашем мире, – говорит Толстой, – посмотреть на Чикаго, Париж, Лондон, все города, все заводы, железные дороги, машины, вооружения, пушки, крепости, книгопечатание, музеи, 30-этажные дома и тому подобное, задать себе вопрос, что надо сделать прежде всего для того, чтобы люди могли жить хорошо? Ответить можно, наверное, одно: прежде всего, перестать делать все то лишнее, что теперь делают люди. А лишнее в нашем европейском мире, это – 0,99 всей деятельности людей».
В период максимально узкой жизни, каковой является современная европейская жизнь, область ненужного неимоверно расширяется, а область нужного – до крайности суживается. Можно сказать, что европейская современность построена сейчас по схеме халифа Омара, который, как известно, перед тем, как сжечь Александрийскую библиотеку, сказал: «если в ней есть то, что написано в Коране, то она лишняя, если же то, что там не написано, то она вредна».
Так под видом нужного жизнь обрастает чудовищной нагроможденностью, бесконечным хламом утрированной деловитости, связывающей и обескровливающей каждый мир, каждое дыхание бытия.
Европейцы часто гордятся тем, что они далеко отошли от своего первобытного состояния, от эпохи людоедства – каннибализма. Однако, внимательное наблюдение показывает, что каннибализм не изжит еще во многих формах. Среди всех этих форм продолжает существовать также «идейный каннибализм», как называл его Герцен (пусть это будет больше метафорой, но метафорой, по нашему мнению, меткой).
Европа переживает сейчас в особенно заостренном виде эпоху исторического каннибализма, когда «сегодня» сполна и окончательно пожирает все «вчера», когда весь предшествующий многовековой исторический процесс рассматривается лишь как «вайи, устилающие путь Господу», как только подготовка к сегодняшнему дню. Такой же каннибализм люди осуществляют на каждом шагу по отношению к настоящему подлинному содержанию своей жизни, поглощая настоящее во имя будущего.
Все это еще более обязывает заняться анализом ненужного и взяться за его защиту. В эпоху утрированного прагматизма и утилитаризма, когда содержание жизни до крайности сузилось, так как до крайних пределов сузилось само понимание ценности, особенно хочется говорить о ненужном и выступить на защиту его.
Именно теперь, когда вся окружающая жизнь так убийственно настойчиво твердит о нужном, важном, социально-необходимом, когда публичная жизнь достигла максимального напряжения, когда anima publica стала повсюду кумиром человечества, а anima intima [спрятана в подполье] – неудержимо хочется говорить о ненужном, о безумном. И не потому, что только здесь последнее убежище индивидуализма, а потому, что отсюда-то все и начинается и по странной абберации современности весь центр внимания и весь акцент переносятся на иную, хоть бы даже и индивидуальную область, но уже иного порядка – на определенные целевые установки, детерминирующие тенденции нашей жизни.
Ненужное, потому что бесполезное.
Наше обычное, общераспространенное понятие о полезном очень грубо и крайне узко, ограниченно. Но и в более широком понимании, в понимании духовного роста, плюса духовной жизни, оно все же нередко является недостаточным и не может сполна охватить все то ненужное, что в конечном итоге представляется нужным в каком-то ином, нами еще не всегда четко улавливаемом плане. С годами, с накоплением жизненных знаний и опыта, в процессе вдумчивого отношения к окружающему мы все больше убеждаемся в том, что жизнь мистична.
Мы все меньше верим в плоскость жизни, в одноплановость ее, в возможность вытянуть ее в одну линию, построить всю на одной плоскости. Все больше чувствуется, что за ее пределами передним планом есть еще другой, неведомый нам и неосязаемый план.
Большая или меньшая малоценность известных переживаний, равно как их большая или меньшая жизненная значимость, являются понятиями весьма относительными, определяемыми главным образом временными признаками: то, что больше занимает времени в нашей жизни, чаще всего считается нами более важным, то же, что скоропереходяще, мимолетно, теряет для нас свою значимость.
Если это не всегда и не во всех случаях может быть применено, то нельзя все же не признать, что кратковременность – малый временной интервал, – как правило, значительно снижает ценность многих наших переживаний, их удельный вес в общем содержании нашей психической жизни.
Отсюда – ложная абберация при подходе к некоторым ценностям, неправильная расстановка интеллектуального и эмоционального акцента на многих жизненных феноменах. Эволюция не столько в проявлении новых фактов, новых идей, сколько в новом перераспределении «значимостей» среди матерьяла старого, всем известного. При таких условиях часто получается так, что «сегодня» важное отодвигается куда-то бесконечно далеко, на периферии сознания, а едва до сих пор замечаемое выступает на первый план. В этом новом понимании, новом распределении «значимостей» нужное сегодня нередко становится ненужным и бесполезным завтра, а ненужное сегодня, мимо чело мы сейчас беспечно проходим, почти не замечая его, становится самым основным, существенным, идейно ценным, стержневым началом наших переживаний.
«Подобно тому, – говорит Ницше, – как не только зрелый возраст, но и юность, и детство имеют собственную ценность и совсем не могут быть рассматриваемы только как переходы и мосты, – так и незаконченные мысли имеют свою ценность».
В конечном итоге, вопрос о взаимоотношении между нужным и ненужным упирается в проблему значимостей. От того или иного распределения значимостей среди всех воспринимаемых нами впечатлений зависят и наши оценочные суждения, наше определение важного и неважного, а следовательно, и все наше миросозерцание.
Опыт и наблюдение показывают, как сфера нужного, жизненно важного, то расширяясь, то суживаясь, перемещается как в пределах различных возрастных периодов одного и того же человека, так и в пределах его духовного роста, обогащения его мировоззрения.
Точно так же и из истории культуры нам известно, что при переходе от первобытных суеверий к научному знанию менялась у человека и значимость всех окружающих его явлений.
Из наблюдений за душевно-больными мы знаем, что неправильное распределение значимостей, даже при наличии вполне правильного, адекватного внешней реальности восприятия, ведет к неправильным суждениям и к искаженному пониманию окружающего. Таким образом, учитывая большую подвижность всей прагматически важной массы нашего познания, необходимо стремиться в своих оценках стать выше неизбежно узких и односторонних рамок только сегодняшнего дня, только сегодняшних оценок.
Как бы не гремел шум истории, как бы не сливался в единое целое многомиллионный гул человеческой борьбы, столкновений, совместных действий и сотрудничества, как бы не звенели гигантские современные сооружения из стали и железа и неистово зазывали трубы фабрик и заводов в процессе неудержимого роста индустрии, за всем этим всегда останется все тот же человек со своей душой, пусть и перестроенной по-новому под влиянием всего того окружения, но все же по-прежнему больше всего живущий в сфере интимного, жаждущий счастья, жадно хватающийся за отдельные миги этого счастья и переживающий страдания.
Жизнь вопиет к новым формам отбора, к новым оценкам. Из всего неизмеримого количества впечатлений, падающих на нас со стороны окружающего нас мира, из всей массы мимолетных, часто недовершенных мыслей, ощущений, переживаний, необходимо произвести новое перераспределение, новый отсев. При этом, быть может, многое из того, что почитается сейчас нужным, отойдет в область бесценного, лишняго, что или совсем следует окончательно упразднить, или мимо чего надо быстро пройти, едва его замечая. С другой стороны, многое, что до сих пор почиталось ненужным, возрастет в своей цене и в своем значении, заняв важное место в нашей жизни и заставив подольше остановить на себе наше внимание, как-бы осуществляя этим евангельский завет: «камень, который отвергли зиждущие, стал главою угла».
Область духовно нужного должна несомненно быть в неизмеримо больше мере расширена по сравнению с тем бесконечно бедным и узким кругом нужного и необходимого, в котором живет современный человек.
Жизнь при таких условиях возрастет, не в смысле ее продолжительности, как мечтал Мечников (ибо продолжительность дело очень относительное), а в смысле ее насыщенности теми переживаниями, которые и должны придавать ей [особую цену].
«Ныне отпущаеми» – отнюдь не должно являться обязательно итогом старости, то есть, иначе говоря, долго прожитой и умудренной опытом жизни, это итог насыщенности, которая при таких условиях может быть передвинута на значительно более близкий срок.
Дело, конечно, не в том, сколько прожить, а в том, как прожить. Очень хорошо сказано в романе Гийю «Черная кровь» (Louid Guilloux. Le Sang noir): вопрос не в том, чтобы узнать смысл жизни, самое главное – это что мы можем сделать с этой жизнью.
При таком подходе проблема о нужном и ненужном возрастает до размера проблемы основного значения.