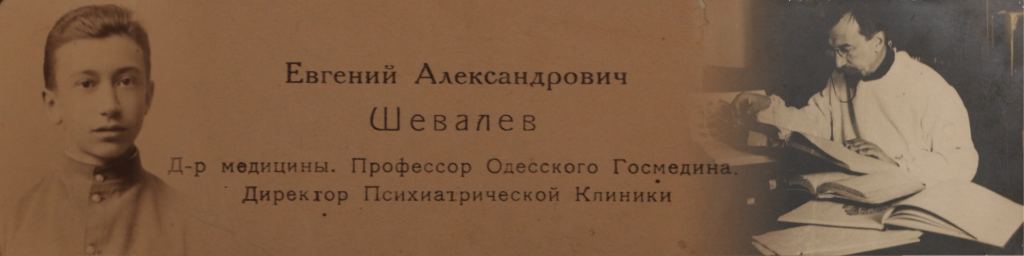Протягом цілого життя основними захопленнями Євгена Шевальова були мистецтво та література. Судячи з активної наукової, педагогічної та організаційної роботи вченого, на хобі і проживання краси лишалися крихти часу – проте саме ці моменти залишали в його душі глибокий слід.
Мистецтву, від музики і живопису до кіно і мультиплікації, Шевальов присвятив другий за величиною розділ своїх «Мимолетных мыслей» (за обсягом учетверо більший, ніж науці).
Як і інші записки Шевальова, його роздуми про мистецтво афористичні, калейдоскопічні, спрямовані на фіксацію окремих думок і переживань.
Розділ складається з 30 тематичних фрагментів:
II. Музика як спосіб пізнання;
III. Про шкідливу доступність мистецтва;
IV. Про кіно та кінематографічність життя;
V. Нечіткість та ідеалізація у мистецтві;
VII. Релігія та архітектура;
VIII. Соціалізм безплідний для мистецтва;
IX. Музеї – уривки світоглядів та світовідчуттів;
X. Мистецтво плинності і моменту;
XII. Про природу завершених образів;
XIII. Мистецтво завершення;
XIV. Про вистражданість у музиці і мистецтві;
XV. Види краси та можливості мистецтв;
XVI. Виразність рук;
XVII. Виразність облич;
XVIII. Особливість музичного сприйняття;
XIX. Про мову та психологію архітектури;
ХХ. Виразність безфарбності у скульптурі;
XXI. Динаміка і статика у мистецтві;
XXII. Про основи образотворчості;
XXIII. Особливості сприйняття в мистецтві;
XXIV. Сила невиразності;
XXV. Про множинність інтерпретацій;
XXVI. Спочатку був ритм;
XXVII. Усе піднесене в житті є музичним;
XXVIII. Про світи беззвучності та звуків;
XXIX. Про об’єм, перспективу та план у мистецтві;
ХХХ. Незавершеність в мистецтві.
Перші два блоки, присвячені музиці, з якоїсь причини опинилися у зошиті «Наука». Останній – потрапив у розділ «Життя». Визначити їх розташування за задумом автора наразі неможливо.
Текст відтворено у відповідності з оригіналом, зі збереженням авторської лексики та орфографії. Неідентифіковані або втрачені фрагменти позначені трикрапкою, реконструйовані – виділені квадратними дужками. Авторські виділення та посилання збережені. Більше про технічні та стилістичні особливості читайте у передмові до філософських статей Євгена Шевальова.

Среди искусств особое место занимает музыка.
В ней значительно меньше прошлого, чем в других видах искусства, посколько наиболее совершенная форма фиксации звуков в виде современных нотных знаков, музыкальная грамотность, подобная грамотности в других видах искусства – в литературе, живописи, – и отсюда одинаковая читаемость звуковых обозначений, равные для всех, можно сказать, более или менее завершенные музыкальная грамматика и синтаксис, является достоянием недавняго времени.
Если бы мы могли полностью восстановить музыку прошлого, то, возможно, что музыкальные прерафаэлиты, музыкальные Джиотто и Беато-Анджелико, – нас так же стали бы чаровать, как чаруют нас сейчас прерафаэлиты пластики, фресок и станковой живописи.
Быть может, напевы Гомеровских гимнов и вообще период гомеровского эпоса, если бы только они дошли до нас во всей полноте их первоначального состояния, производили бы на нас очень сильное впечатление и тоже могли бы быть отнесены к образцам классического, бессмертного искусства, хотя [заранее] можно думать, что такого богатства содержания, такого разнообразия тем, какое было в Гомеровском эпосе, современная ему музыка при ее тогдашней бедности, вряд ли была в состоянии передать.
Некоторые виды искусства обладают еще меньшим долголетием, чем наука. Таково искусство музыканта, не композитора, а исполнителя, виртуоза, певца, драматического артиста.
Здесь уже буквально остаются одни лишь имена, само искусство со всеми его творческими достижениями окончательно умирает вместе с творцом.
Вот почему [оценку] его можно в таких случаях строить только на доверии к непосредственным свидетелям.
Восприятие музыки принято рассматривать как форму определенного эмоционального переживания.
Никто почему-то не говорит о познавательном значении музыки, о музыкальном познании, музыкальной «гносеологии».
А между тем, музыка есть тоже определенная форма познания, расширяющая и углубляющая наше понимание окружающей нас Вселенной.
Таким образом, наряду с познавательной мудростью возможна и эстетическая мудрость, созидающаяся на почве большого и многообразного опыта эстетических впечатлений, объединяемого в целое мировосприятие. К этой категории необходимо отнести и музыкальную мудрость – мудрость длинных, многогранных, внутренно переработанных, объединенных в единое целое, звуковых восприятий.
За «схемой мира», позади ее плоскостного плана, воспринимаемого нами в форме чисел, предметов и вообще конкретностей (конкретных предметов и конкретных явлений), скрывается некая абстрагируемая и нечетко нами осознаваемая сущность, одним из элементов которой является музыкальность мира.
Певучесть человеческого духа, певучесть окружающей нас природы.
Все явления окружающего нас мира и все переживания человеческого духа не только «явствуют», но и включают в себя скрытые от непосредственного восприятия бесконечно многообразные и вместе с тем характерные для каждого явления ритмы, которые вчувствующий музыкальный человеческий дух может выявлять и облекать в формы сложно-сочетанной гармонии.
Музыкальный психологизм лишь дополняет и углубляет психологизм, построенный на наблюдении и вчувствовании.
Можно ли считать, что патефоны и радио повысили общую музыкальную культуру, сделали людей более музыкальными, привили им более музыкальный вкус, сделали сам жизнь музыкальнее? Несомненно, что нет.
Все чрезмерно популяризируемое, общераспространенное, повторяемое бесчисленное число раз, снижая в силу своей доступности остроту восприятия первичного переживания, ведет к снижению и самих, заложенных в этой популяризации ценностей, заменяя эти ценности привычным фасадом, ходячей монетой обыденности.
Радио и патефон, чрезмерно популяризуя все музыкальное (музыку, пение) – плохое и хорошее, – несомненно снижают «дух музыки».
Истинные музыканты не только не должны радоваться такой для них никогда не ожидаемой популяризации всего музыкального, но должны плакать от этой популяризации, чувствуя в ней гибель музыки, как великой тайны искусства.
То же самое происходит на наших глазах с изобразительным искусством, благодаря открыткам (миллиардам открыток).
Доступность – палка о двух концах. В самом факте повторяемости есть вульгаризация. Многократное повторение того, что вызывало некогда эмоции – слезы и смех – ведет к притуплению восприимчивости.
Мир нового и неожиданного в сфере прекрасного суживается, ибо все некогда прекрасное начинает терять свою новизну и неожиданность.
Великие художественные произведения и связанные с ними переживание – это события. Сделать их бытовым явлением не значит украсить жизнь, поднять ее на высшую ступень, это значит снизить сами произведения, впечатление от них.
Чудо искусства – Джиоконда Леонардо да Винчи – воспроизводимая на бесчисленных открытках, конфектных коробках, табачных этикетках, обложках, афишах и прочем, перестала быть чудом искусства, стала ходячей монетой, штампом.
Доступность растет, заполняя все поры жизни.
От северного полюса – на фотографиях, открытках – до потрясающе, глубоко выстраданной симфонии Бетховена, которую можно повторять на патефоне сколько угодно раз – все становится доступным.
Осталась еще поэзия неясных ощущений, неоформленных переживаний, которые произвольно воспроизвести пока невозможно. Однако люди, наверное, скоро научатся искусственно вызывать и эти чувства (например, зимой в комнате дуновение весеннего ветерка, запах моря и его свежесть и прочее) и тогда и эти переживания утратят свою остроту и новизну, легко станут убийственно привычными, будничными.
Сфера будней расширится за счет все большего снижения сферы чуда.
Кино – как оно не пытается приблизиться к большому искусству, стать на один уровень с ним, суждено, по-видимому, оставаться полуискусством, чем-то промежуточным, средним между собственно искусством и простым вульгарным зрелищем.
Беглость впечатлений, получаемых от кино, оставляет сравнительно мало прочных следов и поэтому эти впечатления плохо запоминаются.
Этому плохому запоминанию мешает также чрезмерный динамизм кино, а при ослаблении этой утрированной моторики и при переходе на умеренные темпы движения кино неизбежно тускнеет и увядает.
Для глубины и прочности наших впечатлений должно быть определенное равновесие (определенное соотношение) между статикой и динамикой воспринимаемого.
Чрезмерная вялость моторики, ровно как и чрезмерный динамизм, препятствуют глубине и прочности впечатлений.
Можно сказать, что некоторые компоненты кино в такой мере превосходят заложенные в нем компоненты сенсорные, что не оставляют достаточного времени для доразвития вызываемых им чувств (сопереживаний), что и обуславливает в среднем меньшее производимое им впечатление, меньшую его запоминаемость, по сравнению с любым театральным представлением, развивающимся в привычных для нас и поэтому значительно более близких нам темпах.
Очень часть, просмотрев кино, нельзя бывает даже сейчас, непосредственно после просмотра, повторить целиком его содержание, что в такой мере совершенно не свойственно другим видам искусства – литературе, поэзии, живописи и прочем.
Злоупотребление моторикой не дает возможности углубленно осмыслить отдельные ситуации; отсюда большая уплощенность кино, его… чаще всего банальный психологизм.
Вот почему некоторые выдающиеся произведения (романы, повести, исторические сказания), переложенные на язык кино, сразу как-то непомерно съеживаются, теряют значительную часть своей психологической насыщенности, выдвигая и подчеркивая лишь отдельные динамические моменты, отдельные вехи заостренностей сложно развивающегося действия, упуская при этом весь процесс постепенного роста, развития, нарастания ситуационных сложностей.
Фантастическое в кино всегда неизмеримо конкретнее фантастического в литературе, оно неизбежно грубо опредмечивает то, что в литературе нередко заменено бывает словом, общими понятиями.
В этом отношении кино продолжает оставаться искусством для малограмотных, для лиц, со слабо развитым абстрактным мышлением, склонных только к восприятию фотографически-конкретного, а не художественно целостного.
Кино значительно доходчивее, в силу своей элементарности, чем театральные зрелища, так как воспринимается обычно совершенно пассивно, без всякого напряжения мысли.
Однако, в силу именно этих его особенностей, нет иного отдыха, иного освежающего кратковременного перерыва в деловитости для современного усталого человека, напряженно живущего в продолжении целого дня в процессе тревожной и сосредоточенной работы, как кино.
В некоторых, правда, редких случаях кино подымается до высоты подлинно художественных произведений (например, «Коллежский регистратор» или в таких прекрасных музыкально-вокальных фильмах, как «Большой вальс»).
Кино нередко пародирует то, что никаким другим видом искусства передать в такой форме нельзя.
Никто еще целиком не уловил это особенное в кино и поэтому по-настоящему не научился его еще использовать.
Коли кинематограф занял сейчас заметное место в жизни, стал как нельзя более под стать современному быту, то это, несомненно, обусловлено нарастающей кинематографичностью самой жизни, господством в ней скоропреходящего динамизма.
Деловая спешка вполне гармонирует со спешкой развлечений и удовольствий. Суетливая жизнь соответствует суетливости досуга, а отсюда суетливости самих развлечений, да и развлечения эти по своей продолжительности неизбежно в таких случаях бывают очень коротки; современному человеку нет времени уделять целые вечера театру, концертам.
Жить, действовать, творить и наслаждаться походя, на ходу – таков стиль всей современной жизни.
Кинематограф, выигрывая в скорости, теряет в глубине.
Впрочем, в настоящее время эта потеря мало кого особенно интересует.
Особая разновидность кино, находящаяся пока еще в зачаточном состоянии – мультипликация, – движущаяся каррикатура, или, иначе говоря, каррикатура в процессе ее динамического развития, представляет собой, несомненно, совершенно новый вид искусства, богатый по своей фантастике и своим возможностям, и вместе с тем новый, чрезвычайно многообразный мир комического, открывающий неожиданные перспективы для творчества и обещающий в будущем много интересного.
Нечеткость, неопределенность образов, а также их адинамизм, нередко служит основой для их идеализации.
Эта неопределенность, нечеткость, как главные источники идеализации, особенно сказывается в русской иконе.
Предпочтительная неясность православных образов, написанных густыми, часто темными красками, обезличенных и обездвиженных золотыми и серебряными окладами, со сполна скрытой под этими окладами телесностью, создает совершенно особое впечатление – впечатление значительно большей [монументальной] оторванности от жизни, нежели четко выписанные художественные изображения на те же религиозные темы, приближающиеся в этом отношении больше к картине, нежели к образу, порождающие не столько религиозные, сколько эстетические переживания.
Мы говорили выше о преобладающем значении в жизни недовершенных переживаний, ненасыщенных влечений, неизжитых чувств.
Влекущая улыбка Джиоконды и открывающаяся за нею безбрежная даль, – служащие лучшей иллюстрацией к Гетевским строфам: «Das Ewig weibliches zieht uns hinauf»*, являются ярким выражением ненасыщенных томлений взыскующего духа.
Произведения некоторых великих художников оставляют впечатления недовершенности их замыслов.
Так, Патер говорит о незаконченности всех скульптур Микель-Анджело.
Этому как бы противоречит тот факт, что целый ряд совершенных созданий человеческого гения – Рафаэлевская Madonna de la Sedia, некоторые лирические стихотворения Пушкина, Requiem Моцарта, – представляют собой предметно законченное целое, совершеннейшее по своей структуре и по своему содержанию, где не может быть прибавлено или убавлено ни одной [крупицы], ни одного штриха.
Однако, как раз эти предельно законченные создания человеческого духа являются источником бесконечных и [многообразных волнений], недостаточно осознаваемых влечений, стремлений к той окончательной эстетической и моральной полноте, о которой говорит Толстой.
- «Вічна жіночість підносить нас» (з німецької)
Религиозно-философская мысль в своем стремлении к архитектурному воплощению создавала на юге формы открытых сооружений, широко доступных для воздуха, неба, солнца.
Такова структура Египетского и Греческого храма, Византийского купола.
На севере та же религиозно-философская мысль создавала форму закрытых, все более замыкающихся от окружающей природы, интимных, оторванных от жизни построений (готический храм с его полумраком и фантастическими мечтательными виражами, русская деревянная шатровая или каменная низкосводчатая полутемная церковь).
Первый тип сооружений ищет слиянности с окружающей средой, второй – бежит от нее в фантастику, мечту.
Христианство, в противоположность насыщенной, полнокровной телесной античности, внесло в жизнь аскетизирующее начало с его абстрактностью, мечтательностью, страдальчеством.
Таков дух русского храма, внешне как будто и близкого окружающей природе (деревянная шатровая церковь), а внутренне пещерного, мистически-замкнутого.
Здесь, на этом примере, особенно заметно выступает отображение влияния природы, ее характера, ее психологии (психологии северного неба и вообще северного пейзажа) на религиозно-философских исканиях и переживаниях человека.
Христианство явилось стимулом для величайших созданий искусства – в поэзии, архитектуре, живописи, скульптуре, в меньшей мере в музыке. А социализм? Может ли он хоть в малой мере рассчитывать на аналогичную роль в истории культуры?
Претендуя, подобно христианству, на то, чтобы взять человека всего целиком, без остатка, завладеть всем его миросозерцанием, социализм оставляет, однако, в этом разделе пустое место.
Я иногда думаю о наших художественных и культурно-исторических музеях в подлинно углубленном понимании их содержания и значения.
Ведь все то, что мы в них видим, все, во что стараемся вникнуть, вчувствоваться, все это нуждается для полноты понимания в таких дополнениях и исправлениях, о каких почему-то не думают и не говорят.
Осколки некогда целостных мировоззрений, оторванные от своей matrix и беспорядочно собранные в одну кучу или хотя бы даже просто перенесенные в виде отдельных фрагментов в атмосферу сегодняшнего дня, они становятся часто лишь простыми красивостями, занятными дневниками, вкусовыми объектами нашего эклектического гурманства, не перестраивающими по-настоящему нашу психику и лишь поверхностно затрагивающими ее.
Невольно возникает чувство жалости к этим осколкам.
Как унижены, обесцвечены в условиях современной жизни и при наличии из мозаичного объединения все эти черепки некогда утраченных не только мировоззрений – это еще было бы полбеды, – но подлинно замкнутых в самих себя, исторически разных неповторимых мироощущений, – форм ощущения самого себя и окружающей Вселенной.
Восприятие их в такой форме, пожалуй, больше всего под стать современному человеку с фрагментарностью его психической структуры.
Помимо отрывчастости есть и другое, не менее важное, что мешает полноте нашего подлинного понимания и подлинного вчувствования.
Мы при развеске картин обычно тщательнейшим образом учитываем и место развески, и освещение всей комнаты, и окраску стен и весь характер окружающей обстановки, так как без учета всего этого даже самые талантливые художественные произведения теряют значительную долю производимого ими эстетического впечатления.
Однако, говоря о значении окружающей обстановки, почему-то совершенно игнорируются более общие условия: природа данной местности, преобладание в ней светлых или темных дней, ее климат, характер погоды, а между тем все это составляет лишь продолжение того общего фона, без учета которого не может быть правильного восприятия.
Исходя из этого, нельзя, например, углубленно воспринимать венецианских мастеров в Петербурге с его мрачными, серыми днями, или Рембрандта в Алжире при ослепительном свете жаркого южного солнца, – нельзя правильно почувствовать их.
Поставленные в условия иного, чуждого им окружения, они теряют значительную часть своей духовной насыщенности, своего» надышанного тепла».
Это же касается и других видов окружения.
Как неуместными, утратившими 90% своей остроты и свежести были бы отдельные отрывки наивного мировоззрения Франциска Ассизского, скажем, в атмосфере современных технических лабораторий с их деловитым, сугубо конкретным укладом, так часто бывают чужды, неуместны, обездушены и обескрашены кусочки отдаленного прошлого в атмосфере сегодняшнего дня.
Нам кажется, что историки – искусства, философии или же культуры вообще, должны особенно развивать и утонченно детализировать методологию восприятия прошлого, – того, что можно было бы назвать культурой сопереживаний.
Да, Рембрандт величайший реалист. Однако, это не реалистическое мироощущение, при котором не воспринимается ничего дальше реальности.
Рембрандт более чем кто-либо другой далек от стопроцентной трезвенности фламандцев, влюбленных в материю, как таковую.
Творчество Рембрандта не апология вещественности, хотя о сам и любил эту вещественность, вернее, отблеск его.
Это, вместе с тем, не обесплоченное мистическое восприятие жизни с тяготением к потусторонности.
Все творчество Рембрандта пронизано острым осознанием тайны недовершенности в жизни – недовершенных образов, недосказанных слов, незаконченных движений, неосвоенных глубин.
Рембрандт исключительно остро чувствовал таинственность жизни, таинственность всего мироздания.
Все эти слабо освещенные уголки жизни – человеческие лица, –сосредоточенные, страдающие, благословляющие, радующиеся, – отдельные предметы, куски одежд и прочее, окружены тайной глубокого полумрака, золотистыми сумерками недовершенных контуров, тенью вещей, за которыми угадываются еще какие-то невыявленные возможности.
Сквозь окружающий нашу жизнь сумрак, полный тайны, пробивается наиболее близкое нам и вместе с тем наиболее таинственное – психическое.
Оно либо мимолетно прекрасно (Даная, ямочки на лице улыбающейся женщины), либо страдальчески мудро (скорбные складки на лицах, особенно старых, скорбные и благостные руки, страдальчески одухотворенное тело (снятие с креста, Блудный сын).
По существу, все творчество Рембрандта стихийно и беззвучно говорит, – как, кажется, никто никогда еще не говорил, – о том, что за передним планом жизни скрыт повсюду другой ее план, более глубокий, хотя и смутно улавливаемый, полный ожиданий, предчувствий, прозрений.
Все творчество Рембрандта – это могучий протест против плоскости жизни, плоскостного ее понимания, это открытие в ней новых глубин, как-бы новых форм измерения помимо всем известного трехмерного.
В смысле времени различные виды искусства неоднородны.
Иные, как, например, скульптура, живопись, архитектура, – одномоментны, другие, – литература (поэма, роман, драма) музыка – длительны.
В живописи и в скульптуре психическое передано в форме отдельных моментов, в литературе и в музыке оно в движении (в изменениях, в развитии).
Первые более приближаются к статике, хотя и бывают часто насыщены большим динамизмом, вторые – в значительной мере динамичны, хотя и стремятся иногда фиксировать отдельные моменты – ситуации, переживания.
В литературе наиболее одномоментной часто бывает лирическая поэзия, отмечающая отдельные изолированные впечатления, переживания, в музыке – романс, этюд, песня.
Некоторые виды искусства (комедия, драма), включают в себя одновременно оба эти раздела – и динамический, и статический.
Это и понятно, если учесть, что некоторые виды искусства (архитектура, скульптура, живопись) осуществляются в пространственной форме, некоторые (как музыка), – в форме временной, наконец, некоторые (как, например, драма) – и в той, и в другой форме одновременно.
Странное дело: чем многограннее искусство, чем больше оно приближается к реальной жизни, чем в большей мере оно осуществляется одновременно в пространственных и временных формах (например, в драме), и главное – чем оно при этом динамичнее, тем оно нестойко, преходяще, эфемерно.
О творчестве великих гениев сцены, о Мочалове, Щепкине, Дузе, Сальвани и прочих, и прочих, мы судим лишь по рассказам, судим только на веру, так как их искусство – все многообразие их творческих достижений, каждый отдельный штрих их художественных прозрений окончательно и навсегда умирают вместе с ними, в то время как создания творцов пластического искусства – художников, скульпторов, архитекторов, а также литературы и музыки – поэтов, прозаиков, музыкальных композиторов – продолжают жить в полной мере со всеми мельчайшими изгибами проявлений творческого гения их авторов.
Реальная жизнь в силу своей крайней сложности и многогранности, а главное, в силу своего исключительного динамизма, меньше всего поддается улавливанию, охвату, учету, фиксации, овеществлению в тех или иных формах.
Чем больше мы стремимся абстрагироваться от ее динамизма, непрерывности и целостности, чем более стараемся расчленять ее на отдельные пространственные и временные отрезки и влить это в стойкие формы письма, нот, рисунка, красок, каменных глыб, тем отчетливее и ярче выступают статические элементы жизни, тем более стойкий характер принимают эти статические элементы.
Присущее нашему сознанию стремление к выделению законченных, целостных образований, – насыщенных и завершенных в себе целостных структур, – из общего потока окружающей нас непрерывной длительности, находит в себе наиболее яркое выражение в искусстве.
Это особенно сказывается в некоторых видах литературы – в романе, повести, поэме и, особенно, в драматических произведениях, а также в музыке – в симфонии, опере.
В литературе и в драме эта потребность обычно удовлетворяется только двоякого рода концом: либо благополучным исходом всех предшествующих коллизий, при котором отрицательные персонажи бывают в большей или меньшей мере наказаны, или хотя бы отодвинуты на второй план, а положительные персонажи в большей или меньшей мере торжествуют, либо смертью героев, неизбежно и окончательно завершающей все бывшие до того времени события и переживания.
Этот завершающий, эстетически насыщающий характер последних моментов художественных произведений принимает и в некоторых других видах искусства, в отличие от прочих моментов, весьма однотипную форму.
Как известно, заставки и концовки образуют совершенно особый раздел графического искусства, независимо от сопутствующих тексту иллюстраций, гравюр, рисунков, что говорит об особой значимости этих двух основных разделов.
Художественное значение многих старинных книг (инкунабул), совершенно лишенных иллюстраций, заключается в их заставках и концовках.
То же отмечается и во многих современных художественных изданиях. Если заставки чаще всего имеют вертикальный размер, то концовки обычно простираются по горизонтали, этим как-бы подчеркивая, подытоживая все вышеизложенное.
Почти всегда можно по внешнему виду распознать любую художественную концовку, даже совершенно выделенную из текста, рассматриваемую в изолированном виде, – в большей мере, чем заставку.
Еще больше однообразия, чем в графике, отмечается в музыкальных концовках.
В музыке эстетическая насыщенность бывает обычно связана с определенной, стереотипно повторяющейся формой окончания музыкального произведения.
Как часто, слушая в первый раз музыкальное произведение… сразу угадываешь приближающийся конец.
Если прослушать подряд finale цілого ряда музыкальных произведений (симфоний, опер, квартетов) и даже не целиком все эти finale, а в их последних заключительных аккордах, то получится поразительное единообразие, поражающая однородностью стереотипия.
Другие виды искусства – живопись, скульптура, в меньшей мере лирическая поэзия, музыкальный романс, песня, одномоментны и поэтому включают в себя одновременно как начало, так и конец известного явления, настроения или действия, однако, в некоторых из них тоже есть определенная, однотипная, завершающая и эстетически насыщенная концовка – в лирической поэзии часто в форме повторения или пререфразировки начальных строф, в романсе и песне – в форме замедленных темпов последних аккордов, протяжного окончания последних строф.
Моральная и эстетическая насыщаемость и порождаемая ими моральная и эстетическая сытость, неизбежно придающие выборочный характер всем впечатлениям, воспринимаемым нами от окружающего мира, являются неустранимой потребностью человеческого духа не только в сфере религиозных переживаний, но и в сфере повседневных запросов обыденной жизни.
Я не могу отделаться от чувства обиды за то положение, в котором находится музыка по сравнению с другими видами творчества. Явление, когда «вундеркинд», – ребенок или подросток, еще совершенно не знающий жизни, ничего не испытавший, ничего не переживший, исполняет перед аудиторией глубоко выстраданные, глубоко продуманные гениальные творения Бетховена, плод его долгих, мучительных исканий и огромного творческого опыта, и вызывает своим исполнением гром аплодисментов, всеобщий восторг не имеет себе равного ни в каком другом разделе творчества.
Ведь для настоящего глубокого понимания Шопенгауэра, Канта, Шекспира, а особенно таких великих мировых страдальцев, как Достоевский, Данте, Микель-Анджело, Рембрандт, Бетховен, надо дорасти, надо многое продумать, много перечувствовать, много пережить, необходимо хоть частично духовно созвучать им. А это духовное «созвучание» не может быть достигнуто одной лишь интуицией, оно требует от воспринимающего и жизненной зрелости.
«Некоторые истины – говорит Герцен, – подобно политическим правам, передаются только с годами».
Ни в одном виде творчества нет такого резкого разделения между исполнением и творчеством, как в музыке. Вместе с тем, ни в одном виде творчества так не игнорируется личный опыт, процесс «дозревания», «дорастания» до определенных творческих вершин.
В музыке, в отличие от других видом творчества, часто совершается неестественный, непонятный перескок через знание, через опыт, через весь процесс часто мучительных исканий и технической культуры.
«Вундеркинды» возможны только в музыке, в значительно меньшей степени в математике. «Вундеркиндов» в науке – естествознании, истории, философии, техники, в живописи, архитектуре, скульптуре, литературе либо вообще нет, либо в такой мере нет. Среди лирических поэтов есть сравнительно молодые, однако в подавляющем большинстве случаев даже у гениальных из них это поэзия еще не зрелая, она чаще всего дозревает позднее.
[То же самое наблюдается в живописи]. Так, знаменитая Мадонна Конестабиле Рафаэля, один из шедевров нашего Эрмитажа, была написана, когда ему еще не было восемнадцати лет, но полное свое развитие…
С этой точки зрения талантливость, гениальность характеризуются не столько большей одаренностью, сколько более развитой интуицией вообще, но и особой стороной этой интуитивной способности, обуславливающей как-бы перескок через естественные возрастные периоды, через существующий в норме процесс постепенного и последовательного психического созревания в связи с накоплением личного жизненного опыта, выстраданную этим жизненную мудрость.
Однако, в области музыки этот перескок все же особенно бросается в глаза. Технические моменты исполнения, а также присущие этому исполнению элементы творчества, в разных отделах знания (в науке, искусстве, технике) распределяются по-разному. В некоторых разделах знания они, как отдельное самостоятельное целое почти полностью отсутствуют, в других они эмансипируются до степени совершенно самостоятельного исполнительно-творческого процесса. Передача чужих мыслей, чувств, чужого миропонимания и мироощущения, часто сама по себе является в высшей степени активным творческим процессом. В этом смысле разные виды и формы исполнения, при которых существует это разделение, дают разный простор для творчества.
Все это, конечно, не препятствует тому, что в иных случаях талантливый артист не только может быть конгениален автору по яркости создаваемого им образа или по глубине переживания, но и превышать его углубленностью своей интерпретации, дополняя и совершенствуя то, что не досказал, не додумал или недостаточно прочувствовал сам автор.
В процессе исполнения в области науки, техники, литературы, искусства всегда ценен рост, а у «вундеркиндов» лишь выявление самих себя и затем наступает либо стабилизация, либо увядание. У них это определенная данность, тогда как в других отделах знания эта данность (одаренность, талант) – лишь самый начальный исходный момент, от которого начинается ряд достижений, причем наиболее зрелым и наиболее ценным является не это начало, а дальнейшие, часто далеко отстоящие от него этапы развития.
Есть две основные формы передачи чужого творчества – чужих мыслей, чувств, переживаний. Одна – имеющая целью научить других технике данного творчества (в области искусства, науки), а также пониманию мыслей и чувств самого автора (творца). Это педагогическая работа как особый вид [ментальной] деятельности, включающий в себя своеобразные элементы творчества.
Другая – это непосредственная передача мыслей и чувств автора – исполнительная деятельность в собственном смысле слова, тоже включающая в себя особые творческие возможности. Таковы музыканты-виртуозы, артисты, техники, художники – копировщики, граверы чужих картин и прочие.
В музыке, в отличие т всех других видов исполнительной деятельности, путь предварительного роста часто бывает сокращен до минимума. Артистами, художниками-копировщиками, техниками люди в значительной мере делаются, музыкантами-исполнителями – нередко рождаются.
Красота всегда бесполезна. В этом ее прелесть, в этом ее гордость и в этом ее трагедия.
Есть несколько видов красоты.
1. Красота скромная, застенчивая, иногда даже не сразу заметная.
Такова, например, красота природы сама по себе, а также в некоторых формах ее художественного отображения, например, у Левитана, Жуковского.
Красота духовных образов русской женщины у Пушкина, Тургенева.
Красота Чеховского образа и всего его творчества.
Красота в творчестве Перуджино, Ботичелли.
Скромная античная статуя на фоне запущенного сада осенью.
2. Красота сияющая, просветленная.
Творчество Рафаэля, многое в поэзии – у Пушкина, Шелли, многое – в музыке.
3. Красота ликующая, радостная.
Белоснежный античный мрамор при ярком солнце на фоне голубого моря и яркой зелени.
Творения Рубенса.
4. Красота трагическая
Рембрандт, Данте, Микель-Анджело, Достоевский, классическая трагедия – Софокл, Шекспир, многое в произведениях Бетховена, Чайковского.
В противоположность этому красивость – тоже нужные и важный элемент жизни – часто бывает пышна, шумна, иногда даже криклива (таковы некоторые из произведений Венецианской школы…). Из великих художественных произведений можно, например, привести творчество Тьеполо представляющего собой образец переломного момента: это красивость, постепенно вытесняющая и заполняющая собой подлинную красоту.
Иногда красивость может превращаться в свою противоположность – мизерабильность, никчемность, чего никогда нельзя сказать о подлинной красоте.
Принято мало останавливать внимания на ограниченной возможности в сфере искусств, в частности, каждого из его видов.
Ведь все формы искусства – каждый по-своему, – это только частные формы передачи [нас самих] и природы, только ограниченная сфера возможностей, осуществляемая в пределах только одной плоскости, одной категории явлений.
«Ваятель – говорит Гердер, – не может изобразить тени и утреннюю зарю, молнию и гром, ручей и пламень».
Только живопись может передать тень, глубину и значимость ее.
Только музыка может наиболее полно, наиболее осязательно передать грозу, так как звуковые элементы в грозе являются доминирующими.
Только на сцене можно передать молнию, все значение которой не столько в блеске, сколько в динамике этого блеска, быстроте его.
Наши эмоции музыкальны.
Вот почему эмоциональность больше всего и непосредственнее всего передается с помощью музыки и пения.
Все недостающее в каждом виде искусства мы, часто незаметно для себя, восполняем воображением.
Эта дополняющая роль воображения играет, как известно, особенно большую роль в художественной литературе, где нет в такой мере непосредственности восприятия, как в живописи и в музыке, за исключением передачи речи, и где слово в описании явления посредствует для создания определенного представления.
Правда, это в некотором отношении представляет собой и преймущество каждого из искусств – возможность выделить известную категорию явлений в чистом рафинированном виде и поэтому делает ее ближе воспринимаемой и яснее чувствуемой, чем в наших переживаниях и в природе, где эти явления усложняются, а иногда и заглушаются в отдельных своих элементах многообразием и сложностью целого.
Ведь только благодаря тишине и неподвижности (статичности) Леонардо мог так заостренно передать «Das ewig Wiebliches» в улыбке своей Джиоконды, а Рафаэль, в ином аспекте, – передать это «вечно женственное», на этот раз материнское, в своей Madonna della Sedia.
Только эта способность фиксировать мимолетные моменты сверхчеловеческих озарений может передать высочайшие экстатические достижения в таких произведениях, как «Сикстинская Мадонна», как Тициановское «Вознесение Богородицы», как Рембрандтовский «Блудный сын», и как целый ряд других, близких к ним по духу произведений великих художников.
А с другой стороны, только благодаря своей динамичности, безграничности (следовательно, в значительной мере вне конкретности, – вне применения к данному моменту, данному переживанию), стало быть, благодаря исключительной очищенности, рафинированности, особенно остро воспринимаются некоторые музыкальные произведения великих мастеров музыки.
И ничто, ни один вид искусства не передает красоту и поэзию запахов, различных оттенков обонятельных нюансов, а также все многообразие и всю поэзию легкого дуновения ветерка, теплоты солнечных лучей, ощущений водяных струй и прочего.
Весь этот мир, все эти разделы его, остаются вне искусства, вне возможности творческого воспроизведения человеком, следовательно, все художественной красоты, оставаясь красотой естественной, красотой жизни и природы.
После лица самой выразительной, самой психически насыщенной частью нашего тела являются руки – вернее, кисти и пальцы рук.
Можно, как нам кажется, говорить об особой психологии рук.
Есть руки труховые и руки бездельников, руки глупые и руки умные, руки добрые и руки злые, руки радостные и руки печальные, руки пошлые и руки интеллигентные, сытые, руки наивные и руки развратные и прочее, и прочее.
Все это, как известно, учитывалось и великими художниками-портретистами. В портретах Рембрандта часто поражает исключительная выразительность рука, так прекрасно дополняющая впечатление, производимое лицом, позой, всей обстановкой и освещением целого, гармонирующая с этим целым.
Еще в большей мере можно говорить об особой психологии поз.
В сущности, все хореографическое искусство должно быть сплошной психологией движений и поз, психологией общей статики и общей динамики всего организма в целом.
Конечно, в большей или меньшей мере может быть одухотворено почти каждое проявление человеческого поведения, однако некоторые из этих проявлений ближе стоят к сугубо физиологической, другие – к сугубо психологической стороне нашего существа.
…Всегда ли лицо выражает психический мир человека? Почти всякое лицо имеет свою маску – свое парадное выражение для других.
У одних оно сказывается больше, у других меньше.
Только лица детей и душевно-больных лишены бывают этой двуплановости.
Музыкальное восприятие занимает совершенно особое, исключительное положение в сфере наших эстетических восприятий.
Живопись, архитектура, скульптура не требуют в такой мере душевной открытости, размягченности, как лирическая поэзия и особенно музыка.
Музыку можно по-настоящему углубленно воспринимать только с открытой душой, с открытой готовностью к переживаниям, расстегнув ворот и широко распахнув все те условные одежды, в которых мы ежедневно облекаемся в суровом процессе обыденной жизни, тогда как другие виды искусства можно воспринимать, – и даже углубленно воспринимать, – при плотно, до верху застегнутых пуговицах и сжатых губах.
При переключении от научной работы или от житейской условности к чтению по беллетристике, к рассматриванию картин, статуй, архитектурных памятников и прочему нет такого резкого перехода, такой резкой перемены всей психической установки, как при переходе к музыке.
В состоянии музыкального восприятия человек более эмоционально уязвим, более чувствителен, сенситивен, и, вместе с тем, меньше всего умственно занят, чем при какой-либо иной форме восприятия в области искусства.
Музыкальные слезы – наиболее легко возникающие слезы среди всех наших эстетических слез (если не считать, конечно, слез при восприятии драмы, трагедии, порождаемых путем прямых и непосредственных сопереживаний, построенных на многогранности впечатлений – зрительных, слуховых, динамических и прочих.
Быть может, потому, что музыка чаще всего – это обнаженная, ничем не прикрытая эмоциональность, так как в некоторых видах музыки (например, в рыдающих звуках виолончели) представлена прямая и непосредственная, – буквальная – передача наших чувств.
Сфера передачи психических переживаний в архитектуре значительно беднее, чем в других видах искусства, так как в архитектуре отсутствует, или почти отсутствует, занимает очень малое место, особенно в прошлом, индивидуальное; ее объектом является не столько отдельный человек, сколько коллектив со всеми своими вкусами, порывами, устремлениями.
Архитектура более характеризует эпоху, тогда как поэзия, живопись наряду с этим в равной мере и отдельного человека данной эпохи, все его индивидуальные переживания.
Язык архитектуры сравнительно беднее формами выражения языка других видов искусства, в ней больше, чем в других видах искусства непрерывной, однообразной повторяемости форм, этого низшего раздела ритма, – больше стереотипии (однообразных, непрерывно повторяющихся колонн, окон, дверей, стереотипной повторяемости в орнаменте и прочем), не встречающийся обычно в такой мере в других видах художественного творчества, или же встречающийся главным образом в ранние эпохи его развития (стереотипная повторяемость в народных песнях, былинах и прочем).
В архитектуре также несравненно больше исторической повторяемости – повторяемости старых исторических форм, – нежели в каком-либо ином разделе искусства.
В этом смысле иногда даже кажется, что архитектура в целом, за исключением некоторых ее разделом, часто в отношении художественной новизны по существу топчется на месте, повторяя одни и те же формы, или же создавая лишь новые комбинации тех же форм.
Подобного рода историческая повторяемость до известной степени, – хотя и в значительно меньшей мере, сохраняется и в скульптуре (и, конечно, в скульптурном орнаменте, посколько скульптурный орнамент есть лишь часть той же архитектуры).
Все это, разумеется, ни в какой мере не говорит о бескрылости архитектуры, об ее современном якобы упадке и прочем в том же роде.
Это лишь свидетельствует, что архитектура, как искусство, передающее дух масс, коллектива, не находит в настоящее время при современной усложнившейся жизни, новых четких форм, синтезирующих психический профиль эпохи, отвечающих ее основным запросам и устремленностям, либо, что таких форм при современной усложнившейся и идейно не объединенной жизни пока еще нет.
К тому же, архитектура – это наиболее массивное и поэтому самое малоподвижное из искусств, захватывающее и отображающее в своих новых формах только очень большие отрезки истории.
Многие течения в искусстве, очень важные и существенные, но уже вторичного порядка, весьма, однако, яркие в литературе, живописи, музыке, ею совершенно не отображаются.
Эти течения в истории искусств представляются архитектурно пустыми.
Архитектурный психизм, – психическая насыщенность произведений архитектуры, – значительно ограниченнее психических выявлений в других видах искусства, так как он всегда носит только символический характер, то есть передает психическое только в символической форме. Так, готика передает в символической форме религиозно-мистические устремленности средневековья, стройная структура античного храма – ясные гармонические черты греческого мировоззрения, купол Святой Софии – простор небесного свода, к которому устремлен византийский ум. В других видах искусства (в литературе, в живописи, в музыке) психическое передается как в символической, так чаще в непосредственной буквальной форме – в виде речи, внешних выражений, звуков.
Так, в музыке наряду с почти буквальной передачей человеческих рыданий (виолончель) передается также в гармонизированной форме все основные душевные переживания: радость, горе, равно как и гармонизированные звуки окружающей нас природы.
Крайне ограниченный диапазон чувственных переживаний, передаваемых архитектурой по сравнению с другими видами искусств, сказывается в меньшем многообразии этих переживаний.
Так, в архитектуре существует величавое, мистическое, а с другой стороны житейски реальное, уютное, напыщенное и простое, печальное и радостное, трагическое (например, тюрьмы в эстампах Пиранези), но нет, например, [как и в] музыке, смешного (в музыке есть веселое, жизнерадостное, но почти [нет смешного].
Памфлет, сатира, анекдот, юморески, шарж, карикатура и прочее – словом, все то, что в других видах искусства – в поэзии, литературе, живописи, скульптуре способно вызывать смех, не имеет или почти не имеет аналогов в архитектуре и музыке.
Природа передается в архитектуре только в абстрактной, стилизованной форме.
Такова крайняя стилизация растений в капителях колонн, в архитектурном орнаменте, в меньшей мере стилизация животных, человека (начиная с кариатид Эрехтейона).
Безкрасочность скульптуры – античной и современной – все еще остается неразрешимой проблемой.
Что это? Остаток ли неизжитых традиций, проявление исторической косности и условности?
Или рабство перед матерьялом – мрамором, гранитом, бронзой, – к которому чаще всего прибегают скульпторы в виду его исключительной прочности и вместе с тем исключительной пластичности, однородным и одноцветным по самой своей природе?
Или вообще ненужность красочности по отношению к пластическим формам?
Как-будто краска – это нечто лишнее; они отвлекают внимание от восприятия самой формы, как таковой.
В этих формах все так полноценно, так исчерпывающе сказано, что не нужно уже никаких добавлений, пояснений, не нужно большего приближения к реальности. В таких случаях всякая окраска представляется излишней, избыточной, заслоняющей собой восприятие формы, мешающей этому восприятию.
Или, наконец, все дело заключается в искусственности, недостаточной созвучности такого рода сочетания – красочности и пластических форм, – как надостаточно созвучны и поэтому маложизненны некоторые другие виды сочетаний – например, сочетание речи и музыки в так называемой мелодекламации, не получившее в силу этого широкого распространения, или как это сказывается в совершенно уже надуманной попытке сочетания музыки с живописью, что, как известно, в свое время пытался пропагандировать у нас художник Верещагин?
Интересно отметить, что и при относительно нечастых случаях окрашенной скульптуры (например, в средневековом искусстве Запада) эта окраска обычно не бывает столь полноценной, столь насыщенной, как в живописи, а чаще всего представляется блеклой, слабой, завуалированной, как-бы застенчиво отступающей на второй план перед приматом формы, отмечая этим свое добавочное, второстепенное значение.
Такого рода исторические примеры еще больше подчеркивают издревле существующую психологическую неувязку (или, во всяком случае, недостататочную, неполноценную увязку ) между пластическими формами и их красочностью.
Все ярко окрашенные скульптурные изображения, часто представленные в натуральную величину, стоят уже на грани с реальностью, угрожая перейти за пределы допустимого в искусстве (за пределы правды в искусстве).
Так, восковые фигуры наших паноптикумов с их максимальным приближением к реальности, одетые в настоящее платье, снабженные настоящими волосами, стеклянными глазами и прочим, окрашенные в естественные краски, производят на нас отталкивающее, а нередко и прямо жуткое пугающее впечатление, напоминая, в виду своей неподвижности, покойников.
Они поэтому не имеют никакого отношения к искусству; такого рода творчеством никогда и ни при каких условиях не занимались настоящие художники (живописцы, скульпторы).
Очень интересно проследить элементы статики и динамики в искусстве. Живопись, скульптура стремятся передать в стабильных формах динамику, музыка – в динамических формах нередко нечто стабильное, стержневое.
В пластических искусствах, стабильных по своей природе, – живописи, скульптуре – моменты «до» и «после» часто должны угадываться зрителем (в одних случаях больше «до», в других больше «после»), тогда как в литературе, музыке, в сценическом действии эти моменты более или менее подробно развертываются, на них чаще всего сосредотачивается все внимание авторов.
С точки зрения этих моментов должно быть оправдано настоящее, – то, что является предметом художественной передачи.
Лирическая поэзия часто одномоментна – она пытается передать динамическое в законченных, раз навсегда отлитых, строфах.
Адинамизм, отдельные узловые точки жизни, не менее важны, чем сама динамика. Отсюда передача через посредство статики динамического, отсюда понимание движения как переход от одного положения к другому.
Динамика в статике и статика в динамике.
Собственно говоря, динамики как таковой мы непосредственно четко не переживаем, тогда как отдельные моменты видимы, осязаемы и ощущаемы нами.
То, что мы определяем понятием жизнь, представляет собой чрезвычайно сложное и неоднородное в разных своих разделах образование.
Оно созидается из постоянного сочетания этих двух начал (динамического и статического).
Красочность касается только отдельных элементов, она относится в равной мере к звукам и к цветам.
Живописность – соотношение формы и красочности. Она, следовательно, включает в себя и элементы композиционные.
Рисунок это искусственное ограничение предметов от всего их окружающего, установление границ, линий там, где есть лишь различие в освещении, перспективе, окраске.
Вместе с тем, рисунок больше, чем что-либо иное (например, красочность) есть душа изображения, его каркас. Красочные пятна без рисунка представляют собой нечто недовершенное, ненасыщенное, тогда как рисунок довершает изображение.
Психологизм осуществляется как в рисунке, так и в красках.
Форма – ее четкость, ее ведущее значение, – больше всего выступает в скульптуре и архитектуре; в меньшей мере примат формы чувствуется в живописи, где красочность и живописность могут заменять четкость формы и во всяком случае не выдвигать ее на первое место.
Понятие формы и рисунка в музыке сливаются между собой.
Перспектива – явление больше всего выступающее в живописи и в архитектуре. Понятие перспективы очень мало дифференцировано в музыке (близкое, далекое), его почти совсем нет в скульптуре, посколько в ней нет подлинной дали (попытка современной скульптуры создать скульптурный фон не получила широкого распространения).
Яркость – свойство звуков и красок, яркости нет в скульптуре и архитектуре (если не пользоваться этим термином символически, как образным выражением).
Рисунок и образ однородные понятия.
Форма и стиль близкие друг другу понятия с той лишь разницей, что стиль – более общее понятие, включающее в себя разные формы и разные содержания в смысле красочности, живописности и прочего.
Если форма вообще неотделима от содержания, то в некоторых случаях она выступает не первый план, заслоняя собой содержание, в других – содержание заставляет забывать о форме.
Непосредственное восприятие возможно только в искусстве; здесь же оно часто является и конечным. В науке восприятие чаще всего опосредованно, так как для того, чтобы стать научным (в конечном научном смысле)оно должно быть синтезировано из отдельных частных знаний или разложено на них.
Однако непосредственность в искусстве тоже очень ограничена. Преобладающее большинство восприятий в искусстве тоже требует известной подготовки (накопления ряда впечатлений, создающих с годами определенный эстетический фон). В процессе научного творчества больше ясности, понятности, нежели в процессе творчества в области искусства.
В художественном, литературном, музыкальном творчестве, как и в некоторых религиозных переживаниях, значительно больше таинственного, непонятного. Одаренность, талант в сфере искусства представляется чем-то более неожиданным, так как часто выявляется сразу, без предварительной подготовки, иногда даже прямо уже в законченной форме, в виде какой-то надбавки к вчувствованиям, интуитивному пониманию и еще чему-то другому, что нельзя точно определить.
Иррациональное, занимающее очень большое место в сфере искусства и в сфере религии, в значительно меньшей мере выражено во всех остальных формах нашего знания и нашего отношения к окружающему нас миру.
Борьба с ограниченностью чувствуется в каждом виде искусства, стремление выйти за пределы грубой матерьяльности, адинамизма, пространственных и временных ограничений (выйти за пределы вещей).
Наука вообще спокойнее, так как более интеллектуальна. Искусство чаще тревожнее, так как более эмоционально.
Отсюда среди деятелей искусства (поэтов, художников, музыкантов, артистов, в меньшей мере у литераторов) чаще встречается эмоциональная подвижность, повышенная сенситивность, среди ученых-исследователей – чаще сухое доктринерство или приближение к нему, повышенная тенденция к резонерству – чрезмерному логизированию всего окружающего.
Но не только основная, ведущая роль эмоциональности является отличительной особенностью искусства по сравнению с наукой; в самой эмоциональности отмечается тоже известная избирательность.
Так, в творчестве поэтов, певцов, скульпторов, в меньшей мере художников, артистов, музыкантов преобладающую роль играет эротическая эмоция – эмоция любви между мужчиной и женщиной.
Из всех видов искусства только архитектура, будучи нередко эмоционально весьма насыщенной, не включает в себя этой эмоции любви.
Суровых людей в науке больше, чем в искусстве. В области науки чаще, чем в области искусства, чувство долга замещает собою чувство любви.
Некоторые виды искусства могут осуществляться только в определенных пределах. Такого хореографическое, вокальное искусство, – искусство балетного артиста, оперного певца, артиста цирка – акробата, жонглера, в меньшей мере артиста драмы.
Такого рода возрастания ограничений не знает или почти не знает наука.
Неясные ощущения нас больше волнуют, чем ясные. Отсюда психологическое значение полумрака, нечеткости образов – в жизни, в искусстве, в поэзии, музыке, живописи.
Примером скульптурного полумрака может служить завуалированность некоторых образов Родэна.
В исполнении одного и того же музыкального произведения, при игре одной и той же роли драматического репертуара, при критическом разборе одной и той же художествено написанной вещи, возможно бывает бесконечное множество творческих интерпретаций, как не стабильны, казалось бы, соответствующие им печатные тексты. Нет полной повторяемости в сфере нашего восприятия и понимания вещей, есть только лишь их большая или меньшая вариабельность, разная амплитуда колебаний. Отсюда непрерывная отчуждаемость от нас целого ряда уже знакомых форм и мыслей, книг, лиц, воспоминаний – отсюда же с другой стороны непрерывное рождение нового в старом, новое восприятие уже известного, новое его понимание. Мир движется главным образом по пути изменения понимания форм и в неизмеримо меньшей степени по пути самого изменения этих форм. Эволюция понимания во много раз превосходит своими темпами эволюцию вещей.
«В начале было Слово» (λόγος – сверхразумный смысл вещей и явлений). Можно с не меньшим правом сказать:
В начале был ритм.
Ритм, как основная изначальная форма движущего фактора, как первоисточник, прафеномен всех наших физических и психических проявлений и отсюда всего нашего восприятия окружающего нас мира.
То, что отличает Космос от Хаоса.
Можно сказать, что вне ритма нет познания.
Красота – это высшее проявление ритмической согласованности в пределах доступного нам диапазона ритмических колебаний.
Больше всего ритм сказывается в искусстве, а из всех видов искусства в наиболее рафинированном и конденсированном виде – в музыке.
Блок прав, когда углубленно говорит в своих записках о музыкальности мира.
В музыке, пении, декламации, поэзии эта ритмичность достигает своего наивысшего выражения.
Среди пластических искусств ритмичность больше всего выступает на первый план в архитектуре.
Впечатления, обличенные в ритмическую форму, особенно действуют на нашу эмоциональность.
Уже сам по себе пролонгированный (продленный) звук заключает в себе элементы эмоционального на нас воздействия.
Отсюда непосредственное влияние на наши чувства декламации, пения, как продолженных и ритмизированных звуковых сочетаний.
… злое, некрасивое, бессмысленное – это, прежде всего, формы отступления от ритма, нарушения его (нарушение некой, близкой нашему существу, гармонии).
Отсюда высшая форма аритмичности, немузыкальности зла, хаоса – немузыкальность, аритмичность смерти.
А с другой стороны, только ритмичность, гармония есть в высших формах добра, истины.
Если стоять на точке зрения субъективизма восприятия нами окружающего нас мира и считать вместе с Кантом пространственные и временные категории основными изначальными формами нашего восприятия, то еще более общей, чем эти категории, охватывающей их, является категория ритмичности, обуславливающая превращение в нашей психической жизни окружающего нас хаоса в упорядоченный космос.
Выше мы говорили о значении в жизни музыкальности.
Это значение особенно резко сказывается не столько в условиях обыденного поведения, сколько в условиях наиболее важных, наиболее значительных для человека.
Все возвышенное в человеческих переживаниях особенно музыкально.
Вот почему возвышенное проявляется во вне чаще всего в рифмованной форме поэзии, в декламации, в пафосе, то есть в музыкальных ритмически пролонгированных (певучих) звуках с элементами эмоционального нажима в голосе (вибрация, дрожь, особое акцентирование).
Такова также музыкальность молитвы, напевность ее, а также пения, как излюбленных форм передачи возвышенных сторон душевных переживаний.
Правда, в других случаях возвышенное выражается вовне исключительно просто и это часто даже более трогает, эмоционально задевает, так как контрастность внешних проявлений – простота выражения – со сложностью переживаний сильнее иногда действует, чем созвучие этого внешнего с внутренним, которое может быть и кажущимся, ложным (например, пустой, наигранный пафос).
Все это не противоречит, однако, высказанному выше положению, что возвышенное чаще всего бывает музыкально, музыкальнее, ритмичнее обыденного.
Точно так же музыкально все трогательное, жалостливое, недаром в театральном преломлении оно чаще всего передается особой певучей интонацией, вибрацией голоса, близкой к рыданию, или ритмически построенной декламацией, тоже как и возвышенное.
Религия всегда являлась выражением наивысших запросов человеческого духа – познавательных, моральных, эстетических.
И вот именно религия из всех человеческих переживаний наиболее музыкальна.
Религия всегда была теснейшим образом связана с искусством.
Все религиозное богослужение построено на песнопениях, музыке, не певучем чтении отрывков из священного писания, на молитвенных речитативах.
Все виды религиозного искусства – религиозная живопись, архитектура, скульптура, религиозная музыка, – занимающие первостепенное место в истории каждого из этих разделов искусства, – музыкальны в высшей мере.
И если повседневность с ее мелочными заботами сегодняшнего дня как-бы противоречит этому представлению об универсальности в жизни музыки, то это в значительной мере потому, что элементы музыкальности, растворенные в жизни, настолько примелькались, что уже не замечаются нами и поэтому недостаточно нами оцениваются.
С другой стороны, все наиболее тяжелое, трагическое в жизни человека, тяжело и трагически нами переживается в значительной мере потому, что оно противоречит нашей потребности в гармоничном ритмическом восприятии мира, противоречит заложенному в нас духу музыки.
То, что осуществляется внутри человека, осуществляется и вне его. Отсюда, естественно, рождается представление о музыкальности мира, напевности его, чего мы, погруженные в заботы повседневности, обычно не осознаем.
Подобно тому, как скульптура охватывает лишь небольшой круг явлений окружающего нас мира – в ней нет пейзажа: неба, воздуха, облаков, гор, деревьев, нет моря и прочего, и из всего этого в ней фигурируют лишь отдельные осколки: обломки скал, фрагменты древесных стволов, местами трава и цветы, как слабое дополнение к основному и главному ее объекту – человеку, в меньшей мере животному, так и музыка ограничена определенным узким кругом явлений.
В окружающем мире много беззвучного.
Иначе говоря – мир, связанный со звуками, очень ограничен.
Так, почти беззвучен весь огромный и многообразный мир животных, начиная от беспозвоночных, мир растений, вся окружающая нас неорганическая природа: небо, горы, большие водные и иные пространства (за исключением явлений грозы, бури, морского прибоя, шума ветра и небольшого числа других).
Значительно более многообразен в смысле звуков мир высших животных, но и здесь он ограниченнее и беднее числа форм.
О большинстве животных, хорошо известных нам по внешнему виду, мы очень мало знаем в смысле звуковом.
Вообще звуки природы, хотя и многочисленны и многообразны, однако далеко не в такой мере, в какой можно было бы ожидать, учитывая многообразие самих предметов и явлений окружающего нас мира.
Если бы мы научились точнейшим образом воспроизводить звуки окружающей нас природы – шум грозы, падающего дождя, шум морского прибоя, журчащего ручья, скрип телеги, крики животных и прочее, то все это, как и точное воспроизведение людских образов в наших паноптикумах, в форме восковых фигур с натуральными волосами и в натуральных одеждах, не могло бы, конечно, и в отдаленной степени представлять собой произведение искусства, служить основой для художественного, в данном случае музыкального творчества.
Только голос человека, и то в его удлиненной (пролонгированной) и в четко ритмизированной форме (пение, в меньшей мере декламация) составляет часть звукового искусства – музыки в ее широком понимании (вернее, музыкально-вокального ее раздела.
В основе же собственно музыки, как таковой, лежат неестественные, нигде не существующие в чистом виде в окружающей природы звуки – звуки струнных и духовых инструментов, искусственно выделенные из массы воспринимаемых нами шумов и сочетанные в определенные, более или менее сложные, ритмически построенные образования.
Только отдельные из этих звуковых сочетаний частично приближаются к реальным звукам, встречающимся в окружающей нас жизни (таковы, например, рыдающие звуки виолончели).
Музыка в основе своей символична.
Объектом ее является только эмоциональная сфера человека.
Из всех проявлений нашей психической деятельности наша эмоциональность больше всего близка к музыке, созвучна ей.
Ритмичность, лежащая в основе музыки, музыкального восприятия, в своей четкой, ясно выраженной форме, свойственна только некоторым из наших ощущений (прежде всего и больше всего слуховым, далее кинестетическим, двигательным, затем зрительным).
Однако, ритмичность только форма, тогда как содержание ритмических звуковых сочетаний тем более музыкально, чем полнее и точнее оно совпадает, соответствует, полнее сопричастно нашим эмоциональным состояниям.
Такие понятия, как «музыкальная фраза», «музыкальная идея» представляются лишь образными, символическими выражениями, так как по существу они не имеют ничего общего с понятиями фразы, идеи в том их смысле и значении, в каком мы их обычно употребляем.
Все другие объекты музыкального творчества, помимо собственно эмоциональных переживаний, как таковых, выявляются в музыке чрез посредство тех же эмоционально созвучных сочетаний.
Так, описания природы символически осуществляются в музыке как выражение тех эмоциональных переживаний, которые вызываются явлениями природы – грозой, тихим вечером, лунной ночью и прочим.
Возможна также музыкальная имитация звуков, производимых животными (например, жужжанием шмеля, пением соловья, или другого рода звуков), грохота разрушения, журчание ручья, топота толпы и прочего. Однако, все эти звуковые имитации предоставляются в большей мере символизирующими, нежели подлинно имитирующими.
Всем этим определяются естественные границы музыки, музыкальной символики, музыкальной передачи эмоциональных переживаний человека или музыкальной передачи явлений окружающей природы, профильтрованной через эту же эмоциональную сферу человека.
Чем же обусловливается соотношение между музыкой – звуковыми музыкальными сочетаниями, – и нашей эмоциональностью?
Что лежит в основе одной из самых интимных и загадочных связей между двумя этими, столь различными явлениями?
Среди эстетических слез – музыкальные слезы представляются наиболее частыми и наиболее таинственными.
Слезы при чтении литературных произведений или при восприятии слов песни, наиболее понятны.
Менее понятно умиление и слезы перед художественным и изображениями – картиной, статуей и особенно слезы при восприятии музыки.
Что же обуславливает связь искусства, и в частности музыки, с нашей эмоциональностью?
Эта проблема теснейшим образом упирается в проблему красоты, при которой главнейшую роль играет единство ритмов, свойственных с одной стороны, некоторым из наших эмоциональных переживаний, а с другой – некоторым ритмам внешней природы.
Однако, красота в природе и красота в искусстве представляют собой не однородные феномены.
В искусстве она всегда построена на избирательности, на особом выборочном характере зрительных и слуховых впечатлений, однородных по своей эмоциональной окраске или по своему эмоционально насыщенному содержанию.
Отсюда, естественно, рождается представление об универсальном значении ритма, об единообразии, созвучии ритмов, как в нас самих, так и в окружающем нас мире.
В каждом виде искусства, как творчества, построенного на особенностях наших восприятий, превалирующую роль играет тот или иной вид этого восприятия.
Так в творческой деятельности в области скульптуры главную роль играет восприятие объемности (чувство формы, объема, или, если можно было бы его так назвать, «кубическое чувство»).
Эта особенность скульптурного восприятия нередко сказывается и в других проявлениях творчества.
Так, все картины и фрески Микель-Анджело в основе своей скульптурны. Это все зарисованные скульптуры, скульптурные образы.
В противоположность этому отсутствие элементов объемности в восприятии накладывает свой совершенно особый отпечаток на все творчество некоторых художников.
Так, живопись ранняго итальянского Ренессанса, а также наших древних икон безобъемна в своей основе, что придает ей характер мистической легкости, неземной бестелесности.
Такова также утрированная бесскульптурность в творчестве Нестерова, Пюви де Шаваня.
В архитектуре превалирует (является ведущей формой восприятия) перспективность. В рисунке и в живописи – линейность и красочность. В музыке, поэзии, декламации, пении – звучность.
Архитектурность в смысле перспективности является нередко ведущей в творчестве некоторых художников (например, у Пуссена). Такова также многоплановость у Рюйсдаля.
С другой стороны, нарушение перспективности у художников ранняго Ренессанса, вернее, условность этой перспективности, недостаточность ее, создает у нас представление об особом мире, отличном от нашего.
Музыка, осуществляется во времени, пластические искусства – в пространстве.
Отсюда последовательность, сукцессивность в музыке, а с другой стороны – одновременность, симультанность в пластических искусствах.
В музыке одновременность (созвучие, аккорд) имеет неизмеримо меньшее значение, чем последовательность, то есть смена этих созвучий.
Передача временной смены в области пластических искусств особенно выступает в иллюстрации, а также нередко в фресковой живописи (ряд сцен, изображающих последующее развитие исторических, библейских и прочих событий).
Архитектура и поэзия (художественная литература в целом) включают в себя как одновременность выражения, стиль, так и последовательность, смену ситуаций в художественной литературе, многоплановость архитектурных сооружений, постепенное раскрытие в них ряда новых перспектив.
Последнее отчасти осуществляется и в скульптуре (многоплановость скульптуры).
Это, конечно, не более как схематически-упрощенное представление о тех формах восприятия, которые являются ведущими и поэтому более бросаются в глаза в тех или иных разделах искусства, однако оно подчеркивает основные особенности данной категории явлений в их психологическом аспекте.
Самое романтичное из искусств – это музыка, самое положительное, трезвое – это архитектура.
В архитектуре наиболее романтичны руины классических сооружений. Романтика руин заключается в их недовершенности. Отсюда превалирование сюжета руин у таких классиков романтизма, как Пуссен, Клод Лоррен и особенно Пиранези.
Вообще в области творческих актов еще порой возможен вопрос – является ли во всех случаях наиболее совершенным относительно законченное произведения или же его еще незавершенный набросок? Так, среди произведений некоторых художников наибольшей талантливостью, свежестью, правдивостью нередко отмечаются эскизы, этюды, наброски, тогда как те же произведения в окончательно завершенном виде кажутся уже выдохшимися, нередко замученными или сухими, бездушными. Лучшим примером могут служить многочисленные, иногда изумительные по мастерству, этюды и наброски Александра Иванова по сравнению с его «Явлением Христа народу» – плодом его свыше двадцатилетней работы.
Точно так же нередко возникает вопрос, были ли бы некоторые из выдающихся произведений искусства, литературы, философии, науки, оставшиеся почему-либо незаконченными, более совершенными, если бы авторам удалось довести их до конца.
Сказал ли бы что-нибудь еще более значительное Достоевский после своих «Братьев Карамазовых», оставшихся, как известно, незаконченными, если бы довел их до предполагаемого конца, который, быть может, и ему самому представлялся еще неясным.
Превалирование недовершенности в жизни объясняется тем, что жизнь больше проявляется в процессе становления, нежели в ставшем, больше в потенциальном, нежели в законченном, больше в готовности, нежели в данности.
Мы живем не среди кристаллов, как законченных окаменелостей, а среди более или менее насыщенных растворов, в разной степени стремящихся к кристаллизации, растворов, как и все жидкое – неоформленных, текучих.
Быть может, именно разбитость древних статуй, полуразрушенность древних храмов, как проявление недовершенности, представляются источником особого, не свойственного им в свое время при их полной законченности, очарования.
С этой разбитостью, загадочной, влекущей, мы настолько сжились, что нас возможно даже оттолкнуло бы и разочаровало такое произведение, как, например, Луврская «Ника» (Победа Самофракии), если-бы мы увидели ее в ее начальном, совершенно целостном виде.
Из всех видов искусства ощущение наибольшей недовершенности производит музыка. В ней порывы и устремленности никогда не получают полного овеществления, полной эмоциональной насыщенности. Отсюда те необычные, немножко не жизненные, потусторонние эмоции, которые чаще всего оставляет после себя настоящее большое музыкальное произведение.