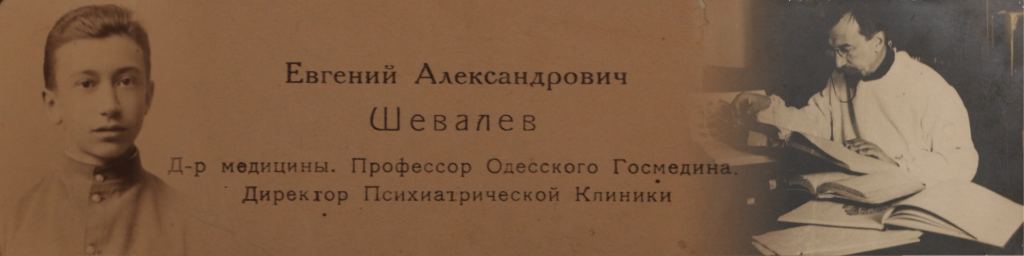Мемуари Євгенії Никодимівни Шевальової збереглися в родинному архіві у вигляді скріпленого зошита на 57 друкованих аркушів. Текст охоплює період з 1881 по 1921 роки. Можливо, був і другий зошит, де описувалися події аж до початку 60-х років (орієнтовний час написання мемуарів. Кінець даного уривка видається обірваним.
Матеріал є джерелом інформації про історію родини Шевальових, характер авторки, та її чоловіка Євгена Шевальова. Останній з невідомих причин фігурує у тексті як Борис, Борис Петрович. Можливо, це було його неформальне «родинне» ім’я. Окрім того, мемуари мають історичну цінність адже розповідають про минуле на конкретних фактах, максимально відверто.
Структурно Євгенія Шевальова виділила лише три розділи на початку розповіді. Надалі ми виокремили ще 16 тематичних блоків, відповідно до хронології.
Зміст роботи наступний.
I. «До трех лет» – період від народження (грудень 1881 року) до кінця 1884 року;
II. «От трех до шести» – події 1885-1889 років;
III. «Владимирская гимназия-пансион» – шкільні роки у Володимирі (1889-1896) та Шуї (1896-1897);
IV. 1897 рік. Навчання в гімназії у Москві (1897-1898);
V. 1898 рік. Навчання на Бестужевських курсах у Санкт-Петербурзі, звідки Шевальова була відрахована за революційну діяльність ( з осені 1898 по весну 1889 року);
VI. 1899-1902 роки. Життя з батьками у Коврові. Театральна діяльність, знайомство з Левом Толстим та Костянтином Станіславським;
VII. 1902-1905 роки. Навчання в університеті в Лозанні (Швейцарія). Дружба з натхненницею Олександра Блока Ксенією Садовською;
VIII. 1906 рік. Річне навчання в Паризькому університеті;
IX. 1906-1908 роки. Повернення до Лозанни, завершення університету. Робота в клініці Цезаря Ру і написання дисертації. Перше знайомство з Євгеном Шевальовим (1908 рік);
X. 1909 рік. Приїзд до Росії. Життя на дачі Шевальових в Одесі і складання іспитів на підтвердження швейцарського диплома медика;
XI. 1910 рік. Весілля з Євгеном Шевальовим (січень). Переїзд до Одесу та робота в жіночій гімназії. Шевальов закінчує 3-річну ординатуру (весна). Робота на курортах в Куяльнику (весна-літо) та Будаках (літо). Знайомство з дівчиною Юлею, яка на 7 або 8 років стала служницею Шевальових. Народження першого сина – Володимира (25 вересня 1910 року);
XII. 1911 рік. Після роботи лікарем на судні і на курорті в Будаках Шевальов складає іспити в докторантуру та від’їждає у Петербург з метою пошуку керівника для написання дисертації. Євгенія Никодимівна влаштовується у хірургічне відділення лікарні Червоного хреста;
XIII. 1912-1913 роки. Переїзд Євгенії Никодимівни до Петербурга щоб допомогти чоловіку визначитися з науковою роботою. Працевлаштування у Психоневрологічному інституті асистентом та завідуючою лабораторії. Євген Шевальов пише і захищає докторську у Володимира Бехтерєва;
XIV. 1914-1916 роки. Працевлаштування обох Шевальових за сумісництвом у Новознаменській психіатричній лікарні. Народження доньки Тетяни. Загибель брата Ігнатія на фронті;
XV. 1917 рік. Початок роботи у лікарні «Всіх скорботних». Євген Шевальов – старший лікар. Свідчення про Жовтневий переворот. Народження доньки Тамари (Мусі);
XVI. 1918 рік. Смерть матері Євгенія Шевальова. Продовольча криза у Петрограді. Переїзд Шевальових до Одеси (кінець листопада 1918);
XVII. 1919 рік. Народження сина Андрія. Відкриття першого табору «Жизнь» для дітей психоневротиків та розумово відсталих. Припинення фінансування табору та продаж частини дачі Шевальових;
XVIII. 1920 рік. Остаточне утвердження радянської влади в Одесі. Двомісячний арешт Євгенії Шевальової через постановку у таборі «Казки про царя Салтана». Продовольча криза в Одесі (осінь) та переїзд Шевальової з трьома молодшими дітьми в Антопіль (нині Вінницька область);
XIX. 1921 рік. Працевлаштування у селі Яланець. Епідемія тифу. Хвороба Євгенії Никодимівни (весна). Переведення у село Стіна (літо-осінь). Повернення до Одеси (кінець року);
Текст відтворено у відповідності з сучасним російським правописом. Пізніші авторські правлення та вставки враховано. Втрачені або нерозбірливі фрагменти тексту позначено три крапкою, реконструйовані – виділено квадратними дужками.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПРОЖИТОЙ ЖИЗНИ
«Каждый когда-нибудь должен перелистать книгу своей жизни с самого начала, особенно в конце жизни, перед последней главой» (Игорь Неверли)
Слишком коротка человеческая жизнь и поэтому естественно хочется пережить её еще раз хотя бы в воспоминаниях. Но, к сожалению, воспоминания эти чрезвычайно скудны, отрывочны и подбор их весьма своеобразен. Так, нередко, казалось бы, важные, с нашей точки зрения, характеризующие целую эпоху жизни воспоминания отсутствуют, а неважные, случайные, стойко фиксируются в нашей памяти.
Самые ранние мои воспоминания относятся к концу восьмидесятых годов девятнадцатого столетия. Родилась я во Владимире, в одном из губернских городов средней полосы России. До трех с чем-то лет я жила у бабушки с дедушкой с материнской стороны, людей малозажиточных. Родители же мои в то время жили в одном маленьком уездном городке той же губернии, куда мой отец, окончив юридический факультет Московского университета, был назначен на должность следователя.
Родители мои, оставив меня у бабушки, часто навещали меня. Первое мое воспоминание относится, по-видимому, к одному из этих посещений. Я сижу на руках у отца и внимательно прислушиваюсь к тиканью карманных часов, которые он приложил к самому моему уху.
К той же приблизительно возрастной эпохе относятся и другие два воспоминания. Я сижу на маленькой табуреточке возле печурки, в которой бабушка варит мне кашу. Я капризничаю и требую, чтобы бабушка немедленно дала мне каши. Наконец, выведенная из терпенья моими капризами, бабушка сует мне в рот ложку горячей каши, и я захлебываюсь от жгучей боли во рту и в пищеводе.
Обратимся к последнему воспоминанию, относящемуся к тому же возрасту. Мы живем на окраине города, возле самой реки, а совсем близко от нас на одном из бывших валов, когда-то защищавших город от нашествия врагов, расположен городской бульвар. На этом бульваре в праздничные царские и другие торжественные дни гремит духовая музыка и устраивается иллюминация. И вот в один из таких дней дедушка, чтобы развлечь меня, понес меня на бульвар. Вокруг с громким треском разрываются ракеты, быстро кружатся огненные столпы, гремит музыка. Ошеломленная, испуганная всем происходящим вокруг меня, я кричу, плачу и бьюсь на руках у дедушки.
Приведенные выше воспоминания не представляют никакой объективной ценности, но они дороги мне, так как помогают, хотя и с очень значительными пробелами, восстановить в памяти прожитую жизнь.
Я уже живу вместе с моими родителями в том городке, где служит мой отец. Наш дом стоит на самом краю города, недалеко от леса. По ночам к самому дому подходят и воют волки. Я отчетливо помню одну из таких зимних ночей. В окно ярко светит сквозь замерзшие стекла луна. Я просыпаюсь от волчьего воя, прислушиваюсь к нему и от всей моей детской души жалею этого одинокого, голодного и замерзающего волка. Я думаю о том, что если бы люди вместо того, чтобы убивать волков и ненавидеть их, пожалели бы, приласкали бы и накормили их, то волки перестали бы быть злыми.
У меня была подружка Настенька. Она умерла от дифтерита. Моя мама была на ее похоронах и в моем присутствии рассказывала о них своей приятельнице, как я называла ее, «Утиньке», жившей у нас. Это было вечером. Наступила ночь. Я в ужасе просыпаюсь и кричу: «мама, папа, не умирайте, я не хочу».
Наряду с этими глубокими по своему содержанию ранними воспоминаниями имеются и другие, незначительные, относящиеся к той же возрастной эпохе. Приведем некоторые из них.
Отец принес с чердака старую зеленую шкатулочку и в одном из многочисленных ее ящичков лежит коготок его любимой собачки Фидельки. Я спрашиваю отца, а где же сама Фиделька?
В нашем городке на главной его улице возвышалась высокая труба фабрики, принадлежавшей неким Волковым. И вот однажды я услышала от своей няни, что Волковы вылетели в трубу. После этого, каждый раз, проходя мимо фабрики, я удивлялась, не понимая, как мог толстый Волков вылететь через такую узкую трубу.
Вспоминается мне один вечер, когда мы возвращались с мамой из церкви после всенощной и нас захватила в пути очень сильная гроза. Я, в то время пятилетняя девочка, так была напугана раскатами грома и вспышками молнии, что впоследствии на протяжении всей своей жизни боялась грозы.
Все это говорит о том, что различные сверхсильные для нервной системы ребенка раздражители нередко оставляют неизгладимый след в его психике и принимают активное участие в дальнейшем формировании его личности.
Вспоминаются мне катанья на лодке по реке, поросшей белыми водяными лилиями, которые ловил по моей просьбе отец.
Летом я вместе с соседскими ребятишками купалась в той же реке. Во время пребывания нашей семьи в Меленках у меня появился маленький брат Яня, но появление его на свет не произвело на меня особенного впечатления. Мне только было неприятно, когда мама брала его на руки и ласкала.
Особенно памятен мне наш переезд из Меленок в Муром, соседний, более крупный город, куда получил назначение мой отец. Впереди на паре лошадей ехала я с отцом и пьяной кухаркой Настасьей. За нами в другом экипаже ехала мама с няней Варварой и с Яней, а позади на двух подводах везли наши вещи. Вдруг ночью на одном из экипажей сломалась ось и нам пришлось остановиться до рассвета в лесу в ожидании мастера из соседнего селения, который должен был починить наш экипаж. Мне было очень страшно: вспомнились рассказы няни о разбойниках, нападающих на путешественников, застигнутых ночью в лесу.
В Муроме я поступила в детский сад. С пребыванием в детском саду связано воспоминание о моем увлечении одним сероглазым мальчиком Сережей, с которым я сидела рядом. Но вскоре я заболела брюшным тифом, от которого в течение очень долгого времени не могла поправиться и мы переехали на другую квартиру, которая находилась далеко от прежней и таким образом мне пришлось расстаться с детским садом и сероглазым Сережей.
Муром расположен на берегу Оки и я с братом и с няней ежедневно проводила почти все дни на городском бульваре, расположенном на берегу этой реки. На завтрак нам мама давала сухарную кашу, которую я очень любила. Но несмотря на сухарную кашу, мой маленький братишка Яня, очень красивый мальчик, рос хилым ребенком, несмотря на то, что мои родители принимали все меры, чтобы укрепить его здоровье. Я помню, как его привязывали к лопате и вместе с этой лопатой сажали в еще не совсем остывшую русскую печь, что по мнению соседских кумушек должно было самым благоприятным образом отразиться на состоянии его здоровья. Но и эта радикальная мера не помогала. Тогда мои родители, будучи людьми религиозными, решили повезти Яню в Саровскую пустынь, где еще совсем недавно подвизался святой старец Серафим и излечивал в одном источнике разных больных.
Я прекрасно помню, как на тройке лошадей мы на пароме переправлялись через Оку. Путь в Саровскую пустынь лежал через дремучие муромские леса, прославленные в русских былинах. Населенные места по дороге нам попадались очень редко, но зато очень часто встречались в лесу деревянные кресты возле могил, где лежали убитые разбойниками богомольцы. Не избежали встречи с разбойниками, выскочившими верхом на лошадях из-за горы и мы. Но благодаря тому, что у нас были очень хорошие лошади, не раз одерживавшие призы на гонках, нам удалось ускользнуть от разбойников, спрятавшись в сторожке лесного сторожа, затерянной в дремучем лесу.
На пути в Саровскую пустынь находился так называемые Девеев монастырь, основанный одной энергичной игуменьей Митрофанией. Мы переночевали на соломе, разостланной на чистом накрашенном полу в одной из келей, утром отстояли обедню, осмотрели ряд мастерских, в которых работали монашки и их огороды и поехали дальше. В саровской обители мы побывали на могиле отца Серафима, в его бывшей келье, где стоял нарисованный во весь рост его портрет, и поехали к чудотворному источнику, возле которого жил отец Серафим в большой дружбе с медведями. Выкупав Яню в этом источнике, мы собрались домой. Я помню, как на обратном пути в лесу нас застала сильнейшая гроза и в нескольких шагах от нас молния расколола пополам одно большое дерево.
Вскоре по приезде домой произошло еще одно, выходящее из ряда вон событие, приковавшее к себе мое внимание.
Так как моему отцу по делам службы часто приходилось выезжать в уезд, у нас всегда была пара собственных лошадей. В Меленках за ними смотрел старый кучер Василий, очень любивший выпить, и когда он бывал пьян, он всегда ложился спать в ногах у своих любимцев. Не знаю почему, спился ли окончательно Василий или умер, но в Муроме у нас появился новый, молодой кучер, человек замкнутый, нелюдимый. Недолго прослужив у нас, он однажды вечером исчез. И так как он иногда поговаривал на кухне о том, что вообще не стоит жить, мои родители прежде всего, когда он исчез, подумали о том, что он покончил с собой. Вечером при свете фонарей стали искать его по всему дому и двору, на чердаке, на сеновале, в сараях и наконец папин письмоводитель нащупал его труп в одном из больших чанов с водой, стоявших во дворе. Это событие произвело на меня, шестилетнего ребенка, сильное впечатление, и, как говорили об этом мои родители, я в течение довольно длительного времени боялась наступления темноты.
Вскоре моя мать получила известие о том, что моя бабушка, у которой я воспитывалась около трех лет, тяжело заболела злокачественным заболеванием и просила мою мать приехать к ней, вместе со мной.
Моя мать, русская, происходила из малозажиточной, простой семьи. Что касается моего отца, то он был отчасти поляк, со стороны отца, отчасти литовец со стороны матери, происходившей из родовитого литовского рода, сродни литовским князьям Ягеллонам. Что касается моего дедушки со стороны отца, он в губернском городе Владимире был очень уважаемым, чуть ли не единственным врачом.
Так как моя бабушка умирала, мама оставила меня в семье моего дедушки со стороны отца, который жил вместе со своей замужней дочерью и рано осиротевшей внучкой Юзей.
Я до сих пор не знала моих родных со стороны отца, и когда меня оставили у них, я чувствовала себя в высшей степени одинокой. Наступила ночь. Я отчетливо до сих пор помню красивую, вышитую разноцветной шерстью подушку, которую положили мне под голову, когда я легла спать. И вдруг ночью я проснулась и, почувствовав непреодолимый страх от того, что очутилась у незнакомых мне людей, я начала громко плакать и настаивать на том, чтобы меня сейчас же отнесли к маме. Я плакала до тех пор, пока среди ночи не послали за моим дедушкой со стороны матери и он не унес меня к маме.
В Муроме мы жили недолго, не более двух лет, так как мой отец получил повышение по службе и был назначен уездным членом окружного Суда в город Ковров. В Муроме, незадолго перед отъездом из него, у меня появился второй брат Нитя. Несколько необычные в русской семье имена моих обоих братьев – Януарий и Игнатий, объяснялись нерусским происхождением моего отца…
Я помню довольно хорошо наш переезд из Мурома в Ковров и один смешной инцидент, связанный с этим переездом. Вместо няни Варвары, которая куда-то исчезла, с нами ехала новая няня – деревенская женщина средних лет – Груня. Никогда не ездившая до тех пор по железной дороге, Груня, придя в дамскую комнату вокзала, решила, что весь вокзал поедет вместе с нами в Ковров и стала раздевать нас, детей. Мы много смеялись над ней. В дороге отстала от нас наша горничная, которую мама послала на одной из остановок купить что-то для нас в железнодорожном буфете и я до сих пор помню ее растерянное лицо, когда она бежала вслед за тронувшимся поездом. Мы переезжали, как какие-то светские помещики. Целый вагон был до отказа забит нашими вещами и животными. С нами ехали наши лошади, корова и лягавая собака, которая вскоре после нашего приезда в Ковров погибла от воспаления легких.
В Коврове мы жили очень долго, более двадцати лет. Жили мы в уютном одноэтажном деревянном особняке, приобретенном моими родителями. Мать моя, в высшей степени предприимчивая женщина, потратила очень много энергии, чтобы внести ряд улучшений в этот дом. Во дворе она построила большой сарай с сеновалом, баню, погреб, возле дома развела большой цветник с фонтаном посредине, а позади двора большой фруктовый сад.
Мне уже в то время было около восьми лет и пора было подумать о моей учебе. Так как в Коврове в то время не было никаких учебных заведений, кроме начальной школы, на семейном совете было решено отправить меня во Владимир, в пансион при Владимирской женской гимназии, тем более, что во Владимире жила моя тетка со стороны отца, Ольга Августиновна, бывшая замужем за лесничим в отставке Головатенко, украинцем по происхождению. Очень тяжело было мне, восьмилетней девочке, отрываться от родной семьи. По этому поводу я не раз горько плакала, и мой отец, очень мягкий по натуре человек, видя мои слезы, уже начал колебаться, подумывая не оставить ли меня дома и дать мне домашнее воспитание. Но мать моя, вышедшая из малообеспеченной в материальном отношении семьи и лишенная возможности получить какое бы то ни было образование выше начальной школы, всегда очень жалела об этом и поэтому неуклонно стояла на том, чтобы отправить меня во Владимир. За это я впоследствии была благодарна ей всю мою дальнейшую жизнь.
Со слезами я простилась с нашим домом, с сеновалом, откуда виднелся так называемый Красный мост и лес, с лошадьми, с коровами, которых уже было двое, и, особенно с тремя моими любимцами-собаками, пуделем Каро, мопсом Бобкой и дворняжкой, почему-то названной Моськой.
Отвезти меня во Владимир было поручено моему отцу, так как он все равно должен был поехать туда по делам своей службы. Но мой отец вообще отличался крайней рассеянностью. В один из царских дней он, надев мундир и двууголку, чуть не ушел без брюк, в одних красных фланелевых кальсонах. При отправке меня вместо того, чтобы сесть в поезд, шедший во Владимир, он сел в поезд, ушедший в обратном направлении, в Нижний Новгород. Благодаря этому мы с трудом успели приехать в гимназию к вступительным экзаменам.
Трудно было мне, избалованной домашним уютом девочке привыкнуть к большим холодным дортуарам, в которых спало не меньше пятидесяти человек, к подъему в шесть часов утра, к обливаньям всего тела ледяной водой, к завтраку, состоявшему из кружки чая с двумя кусками сахара и с половиной французской булки, не сдобренной ничем другим. Но тяжелее всего было переносить постоянную муштру, стояние в углу по малейшему поводу и полное игнорирование воспитательницей малейших, вполне естественных для нашего возраста запросов. Гимназия и пансион при ней помещались в большом двухэтажном здании напротив так называемых Золотых ворот, оставшихся от древних времен и, кажется, уничтоженных вражеским самолетом в Великую Отечественную войну. В глубине этих Золотых ворот находилась часовня с чудотворной иконой Владимирской Божьей матери, у которой мы ежедневно вымаливали успешный переход из одного класса в другой.
На том, что представляла из себя гимназия девяностых годов девятнадцатого столетия особенно останавливаться не стоит, так как об этом много писалось и говорилось. Приведу лишь два факта, особенно ярко характеризующих ту беспросветную рутину, которая процветала в нашем пансионе.
Наша гимназия и пансион занимали угольное здание, фасадная часть которого, выходящая к Золотым воротам, была занята гимназией с ее восемью классами и находящимися в самом конце коридора актовым залом, а часть здания, выходящая на другую улицу была занята пансионом. Таким образом, пансион с актовым алом соединял очень длинный коридор, в который выходили двери классов, а посредине коридора находилась лестница, ведущая в первый этаж, где находились также гимназические классы.
Обучение музыке в пансионе было обязательным для всех воспитанниц и нам, малышам, приходилось каждый вечер для упражнений на рояле, стоявшем в актовом зале, проходить по длинному темному коридору, соединяющему актовый зал с пансионом. Я помню, как замирало мое детское сердце, как только я вступала в этот страшный, темный коридор. При этом в самом актовом зале висело по стенам очень много портретов неизвестных мне людей с темными лицами и со строгим взором, обращенным на меня, в то время как я пересекала большой зал, чтобы подойти к роялю. При этом среди нас, воспитанниц пансиона упорно ходил пущенный кем-то слух, что по вечерам и по ночам по коридорам гимназии блуждает какое-то привидение, облаченное в саван, и тихо стонет.
Преподавал музыку добродушный старик-немец Неве, которого мы любили. Однако, несмотря на это мы все, без исключения возненавидели его уроки единственно благодаря тому, что никому из наших воспитательниц не приходила мысль осветить злополучный коридор, через который нам приходилось ежедневно проходить.
Помимо этого каждый вечер нас водили парами по тому же темному коридору для вечерней молитвы, которую мы все должны были прослушать перед сном. И вот однажды одна из старших воспитанниц, проходя мимо такой же темной, как и коридор, лестницы, схватила свою соседку за ногу, та громко вскрикнула и все сто воспитанниц в страшной панике бросились бежать в рассыпную по коридору обратно в пансион. Благодаря тому, что дверь, ведущая в пансион была открыта лишь наполовину, в дверях произошла невероятная давка, так как перепуганные девочки, не имея возможности пройти в дверь спокойно, падали одна на другую, причиняя друг другу ряд увечий.
В это время в цирке, находившемся на площади рядом с гимназией, шло очередное вечернее представление, но услышав громкие вопли перепуганных воспитанниц пансиона, администрация цирка прекратила представление и поспешила к нам на помощь, решив, что гимназия горит. Начальница же наша, Кокошка, и заведующая хозяйством Турка, жившие в нижнем этаже, услышав страшный крик и топот сотни ног в верхнем этаже, от ужаса остолбенели на месте. Что касается меня, то я, решив почему-то, что за нами гонится лев, вырвавшийся из цирка, добежав опрометью до самого дальнего угла дортуара, забилась под стоявший там рояль. Когда, наконец, улеглась вся суматоха, оттуда меня с большим трудом вытащила наша воспитательница, Клуша. Другая же, дежурившая в тот день воспитательница, Хопера, боясь ответственности за все случившееся в ее дежурство, лежала в глубоком обмороке у себя в комнате. И только после этого происшествия в коридоре были установлены на стенах две керосиновые лампы, которые зажигали по вечерам.
Разбуженные в шесть часов утра, умывшись, помолившись богу и позавтракав, мы все расходились по классам гимназии. Преподавание в те времена в гимназии в подавляющем большинстве случаев было скучным, трафаретным, не выходящим из рамок сухих учебников. Большинство наших преподавателей, пожилых, уже уставших от жизни людей, смотрело на преподавание лишь как на ремесло, необходимое для того, чтобы заработать необходимый для жизни кусок хлеба. Встречались среди них люди не совсем полноценные в психическом отношении. Так, один из наших преподавателей, именно преподаватель литературы, по видимому, под влиянием какой-то бредовой идеи, никогда не произносил слова «черт», а вместо этого поднимал высоко кверху указательный палец и говорил «он».
По окончании уроков мы обедали и шли на прогулку. К зданию нашей гимназии прилегали два сада, один небольшой, другой огромный, заросший самой разнообразной растительностью сад. Но нас по каким-то непонятным причинам не пускали гулять ни в маленький, ни в большой сад, а изо дня в день водили парами гулять по главной улице нашего города. При этом, учитывая тот факт, что нас было все же не менее ста человек, мы естественно нарушали обычный порядок движения прохожих на тротуаре, а главное, к большому неудовольствию дежурной воспитательницы ежедневно встречали также нудно прохаживавшихся парами учеников мужского гимназического пансиона. Мы все, особенно в старших классах, страшно тяготились этими прогулками и всячески старались избежать их, ссылаясь то на нездоровье, то на занятость. Что скрашивало до известной степени эти прогулки, это возможность потихоньку от воспитательницы купить кусочек караимской халвы у встречавшихся на нашем пути торговок.
Единственным светлым пятном на мрачном фоне моей пансионной жизни был вечер субботы после обязательной всенощной в актовом зале и воскресенье, которые я проводила у моей тетки, жившей в своем уютном домике поблизости от гимназии.
Дедушка мой умер незадолго до поступления моего в гимназию. У него была красивая лошадь – Соловей, единственным недостатком которой было то, что она была очень пуглива и начинала «нести» под влиянием самого ничтожного повода. Так однажды она «понесла» и моего дедушку, выехавшего на врачебную практику, причем он упал из экипажа и погиб от заворота кишок, вызванным этим падением. В оставшемся после него доме осталась жить старшая сестра моего отца со своим мужем Александром Григорьевичем Головатенко. Они самым нежнейшим образом любили друг друга: он ее звал Люлькой, а она его – Сашуком. Сашук, как истый украинец каждый день ел борщ и в маленьком горшочке ему ежедневно в русской печке запекали гречневую кашу. Перед обедом также регулярно он выпивал небольшую стопку горелки. Комнатки у них в доме были низенькие и очень теплые. Мебель стояла в этих комнатах очень старинная из красного дерева. Мне особенно нравились среди этой мебели так называемые «козетки» – два мягких кресла, соединенные друг с другом маленьким столиком. По вечерам в каждой из комнат перед образом зажигалась лампадка, придававшая, благодаря своему красному свету, еще большую интимность и уют всей окружающей обстановке. На окне в той комнатке, где я спала, стояла большая бутыль с вишнями, оставшимися после выпитой наливки, которыми угощал меня дядя. За обедом по воскресеньям в угоду мне на сладкое подавали любимый мною сливочный крем с малиновым вареньем. Большая крытая терраса выходила в большой запущенный сад, где осенью я лакомилась яблоками, грушами и сливами. Не знаю почему, но мне этот сад напоминал сад, описанный Тургеневым в «Дворянском гнезде». После обеда в хорошую погоду мы обычно с тетей ездили на экипаже, в который был запряжен погубивший дедушку Соловей, в село Боголюбово, находившееся недалеко от нашего города.
Но воскресенье, как вообще, все хорошее в жизни, пролетало слишком быстро и наступало утро понедельника, когда надо было снова возвращаться в ненавистный пансион. Провожала меня туда горничная тети Ефросинья, а дядя, глядя на мою хмурую физиономию, приговаривал: «Повели бычка на веревочке».
Помимо моих тети и дяди в то время во владимирском женском монастыре жила бабушка моя со стороны отца Софья Егоровна, происходившая, как было указано выше, из родовитой литовской семьи. Выйдя замуж за деда моего, Августина Игнатьевича, польского националиста, человека замкнутого и властного, она была глубоко несчастлива. Муж ее на глазах бабушки сошелся с Бертой, гувернанткой, приглашенной им к детям. Тогда моя бабушка, не будучи в состоянии выносить далее свою унизительную роль в доме, несмотря на то, что ей пришлось покинуть на мужа и ненавистную гувернантку детей, уехала послушницей в глухой отдаленный монастырь, где приняла православие. Я знала ее уже пожилой монахиней. Жила она в келье монастыря, которую купил ей незадолго до своей смерти муж, уже в то время окончательно порвавший с Бертой и до известной степени примирившийся со своей женой. Мы с тетей, также к тому времени принявшей православие, каждое воскресенье бывали у обедни в монастырской церкви и оттуда шли в келью к бабушке. У нее в то время жила девочка одних приблизительно лет со мной – послушница монастыря. Я остро завидовала ей, считая, что жизнь ее в монастыре гораздо интереснее моего прозябания в постылом пансионе. Но больше всего, конечно, я завидовала ее необычному монашескому наряду.
И вот, под влиянием частого посещения монастыря, у меня в возрасте 11-13 лет был период религиозного экстаза, жажды религиозного подвига, что я старательно скрывала от всех окружающих. То же неудержимое стремление хотя бы на миг оторваться от опостылевшей реальности и перенестись в область фантастики заставляло меня вместе с одной из моих подруг по вечерам, когда все воспитанницы пансиона заняты были приготовлением уроков, а дежурная воспитательница оставалась у себя в комнате и лишь изредка приходила в класс, убегать в темные коридоры и классы гимназии и там искать встречи с привидением в белом саване. Летом же, во время каникул, которые я проводила дома, эта непреодолимая жажда приключений заставляла меня и мою подругу ложиться в отверстие между рельсами и ожидать с нетерпением появления поезда, который должен был пройти над нами.
К счастью, я унаследовала от своего отца страстную любовь к книге и чтение спасало меня от полного бездумья, в которое было погружено большинство моих сверстниц.
Когда мы перешли в пятый класс, вдруг совсем неожиданно для всех нас в нашей гимназии появились две новых преподавательницы, две сестры Софья и Августа Павловны Невзоровы. Их молодость, красота, новый подход к делу преподавания, товарищеское отношение к учащимся – все это в самое короткое время сделало их общими любимцами всего нашего класса. Вскоре они у себя на квартире организовали небольшой кружок из наиболее развитых гимназисток, которых они знакомили с марксистской литературой и историей революционного движения в России.
В это время, категорически настояв на том, чтобы мои родители взяли меня из пансионата, я уже жила у тетки. Конечно, жить в домашних условиях было гораздо приятнее, чем в пансионе, но все же пользоваться той полной свободой, о которой я мечтала, и здесь я не могла, так как тетка неустанно следила за каждым моим шагом, проверяла, хорошо ли я выучила уроки и не позволяла мне никуда уходить из дому, не предупредив ее, куда я иду. Ложиться спать она заставляла меня не позднее 10 часов вечера и таким образом я почти совсем лишена была возможности читать. Однако, я все же нашла выход из создавшегося положения. Несмотря на то, что мне приходилось спать в соседней комнате с ними, и дверь к ним всегда была открыта, я, как только раздавался их храп, закрыв огарок свечки книжкой, могла читать хотя бы до рассвета. Что касается моих посещений марксистского кружка, то и тут дело не обошлось без хитрости. Я объявила своей тетке, что раз в неделю некоторые наши девочки собираются у новой учительницы потанцевать. Тогда тетка согласилась отпускать меня на эти вечеринки, но с тем лишь условием, что горничная Ефросинья будет меня туда сопровождать. Обратно же, как я объяснила тетке, учительница и ее сестра сами провожали девочек домой.
Я не помню точно, сколько из наших девочек участвовало в этом кружке, кажется не больше пяти. Да и трудно было бы ожидать большего количества по двум причинам. Прежде всего потому, что подавляющее большинство учениц гимназии, забитые пансионной муштрой, не интересовались ничем, кроме платонических романов на расстоянии с гимназистами мужской гимназии и таким же платоническим обожанием кого-нибудь из преподавателей. Наши воспитательницы так старались сузить наш жизненный горизонт, что даже не позволяли нам подходить к окнам, закрытым занавесками. Второй причиной немноголюдности нашего кружка был тот факт, что в царствование Александра ІІІ участие в каких-либо кружках строго каралось.
… Теперь трудно даже себе представить, какое огромное и благотворное влияние оказал на меня, впечатлительную, жаждущую какого-нибудь подвига, девочку кружок, организованный сестрами Невзоровыми. Более шестидесяти лет прошло с тех пор, но я отчетливо помню, как скрывшись на сеновале от въедливых и зорких глаз моей тетки, я зачитывалась историей русского революционного движения и горько плакала, сожалея вождям этого движения, жестоко платившимся за свои убеждения.
К сожалению, обстоятельства сложились так, что мне вскоре пришлось расстаться не только с нашим кружком, но и самим Владимиром. Дело в том, что мой брат Яня по прежнему рос хилым, вялым мальчиком и учиться ему во Владимирской гимназии, известной своим строгим отношением к учащимся, было не под силу. Поэтому мои родители решили отдать его в находящуюся недалеко от нашего города Шуйскую гимназию, а для того, чтобы он не чувствовал себя в Шуе чересчур одиноким, они перевели меня тоже. Шуйская гимназия того времени мало чем отличалась от Владимирской. Пробыла я в ней всего год, в седьмом классе. В Шуе я пользовалась полной свободой о которой мечтала, будучи во Владимире. В этой гимназии под влиянием преподавателя математики, любившего свой предмет, я, в свою очередь, начала увлекаться математикой, которую раньше не любила.
В то время в Шуе часто наезжал к своим родителям поэт Константин Дмитриевич Бальмонт, бывший родом из Шуи. Во время гимназических праздников нас, гимназисток, заставляли читать стихи Бальмонта. Я отчетливо помню его старого отца, плотного старика с рыжеватыми волосами, в поддевке в сапогах и в картузе, а также его полную энергичную мать, державшую твердо в своих руках как слабохарактерного мужа, так и вообще все бразды правления в их помещичьем доме.
На окраине города в то время проживала одна вдова, Белова, мать одной из моих соучениц по гимназии Жени. У них по воскресеньям днем, а нередко и чаще, собирались ученики старших классов женской и мужской гимназий, и читали запрещенную в то время революционную и прогрессивную литературу – историю революционного движения в России, Писарева, Чернышевского, Добролюбова, Герцена. Мать Жени любила молодежь и всегда встречала нас приветливо и угощала очень вкусными тянучками, которые она сама приготовила.
В Шуе я снимала комнату вместе с Яней у исправника. В противоположность жизни у тети во Владимире, я пользовалась в Шуе полной свободой. Мне тогда было пятнадцать лет, как раз та эпоха, когда ребенок превращается во взрослого человека, и начинает предъявлять к себе и вообще к жизни более серьезные требования. Хорошая, свободолюбивая молодежь собиралась тогда в этом кружке, в значительной степени заменившем мне кружок Невзоровых. Будучи в Шуе, с владимирским кружком я связи не прерывала и во время летних каникул гостила на даче у Невзоровых возле Нижнего, где у них бывал Владимир Галактионович Короленко.
В то время как во владимирском кружке мы все девочки благоговели перед нашими руководительницами и, естественно при такой значительной разнице в возрасте и в жизненном опыте между ними и нами никакой особо инициативы проявлять не могли. В шуйском же кружке мы все были приблизительно равны между собой как в отношении возраста, так и в отношении жизненного опыта, почему различные индивидуальные черты каждого из нас могли проявляться свободно. Из гимназистов в этом кружке участвовали младший брат Бальмонта, Миша Бальмонт, два брата Херасковы, Костя и Ваня, Женя Кузнецов. Кроме этих постоянных членов нашего кружка были еще и другие, но я их не помню.
Какие чудесные вечера мы тогда проводили. Когда все уставали от чтения литературы и споров по поводу прочитанного, Женина мама угощала нас чаем с тянучками, Женя Кузнецов играл на гитаре, а остальная молодежь пела запрещенные в то время революционные песни. Миша Бальмонт обладал прекрасным баритоном и всегда был запевалой в нашем хоре. Потом мы всей гурьбой выходили на улицу. Зимой мы увлекались игрой в снежки или катались в нанятых в складчину розвальнях по фабричным окраинам города, или еще совсем по детски озорничали: подъезжали к окнам квартиры директора мужской гимназии и начальницы женской гимназии и забрасывали их окна снежками, после чего быстро исчезали.
Ранней весной мы бродили по снежному твердому насту в окрестностях Шуи, ярко искрившемуся под лучами весеннего солнца и мечтали о предстоящей нам в будущем революционной деятельности на фабриках и заводах. В начале лета, в экзаменационную пору ходили мы в соседнюю рощу слушать соловьев, а когда они замолкали, на обратном пути пел Миша Бальмонт мои любимые в ту пору юности две песни: «А все через очи, як бы я их мал, за те карие очи, всю б душу отдал» и «Очи черные, очи жгучие». К этой эпохе относится мое первое увлечение Женей Кузнецовым, красивым брюнетом с серыми томными глазами, с его гитарой и цыганскими песнями. Как мне в то время говорили окружающие и мое собственное зеркало, я была красивой шестнадцатилетней девочкой, блондинкой с правильными чертами лица и карими глазами.
Быстро пролетели осень, зима и ранняя весна. Весной слух о существовании нашего кружка дошел до директора мужской гимназии и начальницы женской, они сделали обыск в наших квартирах, нашли запрещенную в то время литературу. Тогда всполошился хозяин моей комнаты, шуйский исправник, и вызвал моего отца. Это было неприятной неожиданностью для меня. Однажды поздно вечером, возвращаясь от Беловых, мы издали заметили моего братишку Яню, с которым рядом шел мой отец. Тогда все мы бросились в рассыпную по дворам, а один из нас, кажется, Миша Бальмонт, от испуга залез на фонарный столб.
Вся эта история наделала больше шума, чем неприятностей. Мы все боялись, что поставят четверку по поведению, но дело обошлось сравнительно благополучно, если не считать того, что всех принимавших участие в кружке гимназистов, которые оканчивали гимназию и у которых уже пробивались усы, посадили на несколько дней в карцер, а меня вызвала к себе начальница и сказала: «очень стыдно тебе, девочке из хорошей семьи, быть коноводом мальчишек». Вскоре после этого мы, сдав экзамены, разъехались в разные стороны.
В это время, не знаю почему, началось заметное охлаждение в моих отношениях с Женей Кузнецовым. Он уехал к себе домой в Москву, а у меня началась интенсивная переписка с Ваней Херасковым, который тоже уехал к себе в Суздаль. Редко проходили два-три дня без того, чтобы мы не писали друг другу, обычно же мы обменивались письмами каждый день. О чем мы писали друг другу, я теперь точно не помню, но письма эти, в общем, были серьезны, сдержанны и касались самых различных, по преимуществу общественных тем. Лишь изредка в письмах Вани можно было уловить некоторый элемент влюбленности в меня. Так, в конце одного из этих писем он мне писал:
«Не мнил я сам себя увидеть
Творцом рифмованной строфы,
Но на ушко скажу поэтом
Кого не сделаете Вы?
И зелень вашего костюма,
И блеск лукавый ваших глаз.
И так далее, продолжения не помню. Вскоре этой переписке суждено было прекратиться. Дело в то, что мои родители, отчасти обеспокоенные жалобами на меня начальницы шуйской гимназии и несколько, по-видимому, обиженные за меня на нее, решили не оставлять меня больше в Шуе, а перевести заканчивать восьмой класс в одну из московских гимназий.
В Москве в то время жила младшая сестра моего отчима, бывшая замужем за писателем-народником Николаем Николаевичем Златовратским. В Москву же, в частное реальное училище Мазинга, родители перевели и моего брата Яню, по-прежнему болезненного, чрезвычайно религиозного и доброго мальчика. Все свои карманные деньги, которые он получал от родителей, вместо того, чтобы тратить их на сладости или развлечения, он раздавал бедным. По своему духовному облику он напоминал мне юношу-брата старца Зосимы из «Братьев Карамазовых». Так же, как и последний, наш Яня погиб в ранней юности от туберкулеза. Совсем другим рос мой младший брат Нитя, веселый, в высшей степени подвижный и шаловливый мальчик.
Как же сложилась моя жизнь в Москве? В то время среди либеральной части русской интеллигенции все сильнее и сильнее нарастало недовольство казенной средней школой со всеми присущими ей недостатками и назревала насущная потребность в школе иного, прогрессивного типа. И вот, такую школу впервые организовала в Москве Мария Федоровна Вагина. Это была закадычная приятельница моей тетки Стефании Августиновны Златовратской, энергичная, радикальных взглядов женщина. В организованной ею школе учились и четверо детей моей тетки, мои двоюродные братья и сестры, приблизительно такого же возраста, как и я. Не знаю почему, но в эту школу я не попала, а училась в частной гимназии Калайдович на Садовой улице. Жила же я в пансионе при гимназии Вагиной. В гимназии Калайдович был прекрасный преподаватель литературы Державин, всячески стимулировавший у своих учениц интерес к литературе. Так как, начиная с раннего детства, под влиянием моего отца я пристрастилась к чтению и охотно писала сочинения под руководством этого талантливого педагога и была у него на хорошем счету.
В пансионате Вагиной меня окружала симпатичная молодежь, сильно разнящаяся по той социальной среде, из которой она вышла, но пропитанная единым прогрессивным духом гимназии Вагиной. У Вагиной, насколько я помню, было двое детей: сын Лева и дочь Лена, погибшая в юности от туберкулеза.
По вечерам и праздничным дням я част бывала в семье Златовратских, которые тогда жили на Малой Бронной в скромной квартире в доме Гирш. Зимой по вечерам мы катались с Колей, Соней, Сашей и Степочкой Златовратскими, детьми моей тетки, с ледяной горы, устроенной во дворе того дома, где они жили. По субботам у Златовратских обычно собирались прогрессивные писатели того времени. Там однажды я встретила Глеба Успенского. Жили Златовратские бедно, исключительно литературным трудом Николая Николаевича. Гостей обычно угощали селедкой и чаем.
Быстро пролетел этот последний в моей гимназический жизни год, приятный во всех отношениях. По окончании экзаменов я приехала в Ковров домой. Ограничиваться восьмиклассным гимназическим образованием я ни в коем случае не собиралась, но в то время девушке получить высшее образование было очень трудно, так как ни в университеты, ни в институты, в которых учились мужчины, женщин не принимали. Для девушек же, желающих получить высшее образование в то время в Петербурге существовали лишь так называемые Бестужевские курсы, а в Москве, кажется, курсы Герье. Так как наплыв желающих учиться был очень велик, поступить на эти курсы было очень трудно. Что же мне оставалось делать? Сидеть дома и ожидать, по примеру других девушек, жениха для меня являлось неприемлемым. Тогда я решила во что бы то ни стало пытаться поступить на Бестужевские курсы.
Директором этих курсов в то время был Н. Н. Раев, как говорили про него, незаконный сын какого-то митрополита. Когда я назвала дома его фамилию, отец мой вспомнил, что когда мы жили в Меленках, там тоже жил или приезжал по делам службы Н. Н. Раев, теперешний директор Бестужевских курсов, и отец мой был с ним в приятельских отношениях, а Раев часто бывал в качестве гостя и в нашем доме, катался с нами на лодке по реке Меленке. Тогда было решено на семейном совете снабдить меня письмом к Раеву с просьбой способствовать поступлению моему на Бестужевские курсы, что в скором времени и было выполнено, так как уже наступила осень и пора было мне собираться в Петербург. Я отлично помню тучную фигуру Раева, его красивую, значительно моложе его жену и модный в то время стеклоярусный занавес, отделявший переднюю от комнат в его доме.
Вскоре я была зачислена слушательницей Бестужевских курсов. Неизвестно, повлияло ли в этом отношении давнее знакомство моего отца с Раевым или тот факт, что я поступила на математический факультет курсов, на который поступить было значительно меньше желающих, чем на филологический. Почему я выбрала именно этот факультет, для меня до сих пор непонятно. Очевидно, в этом сказалось увлечение мое математикой в седьмом классе шуйской гимназии. Но в момент поступления моего на Бестужевские курсы от увлечения моего математикой не осталось почти никакого следа и все мои душевные запросы того времени меня безудержно влекли на филологический факультет.
Поэтому я лишь номинально числилась студенткой математического факультета, а все дни проводила, слушая лекции профессоров филологического факультета.
Как и средняя школа Вагиной, так и Бестужевские курсы возникли с помощью прогрессивной интеллигенции, понимавшей все значение образования для женщин. Вопрос о высшем женском образовании в то время являлся одним из самых актуальных общественных вопросов того времени. Поэтому прогрессивная профессура Петербурга считала своим долгом прийти на помощь только что организованным Бестужевских курсов путем чтения на них лекций. Благодаря этому дело преподавания на этих курсах было поставлено прекрасно. Я помню, с каким захватывающим интересом я слушала тогда лекции по истории средних веков профессора Гревса, а по новой истории профессора Кареева, а также и других профессоров.
Жила я, как большинство иногородних студенток, в общежитии курсов, на Васильевском острове. Нравы тогда в нашем общежитии были очень строгие. Принимать гостей было разрешено студенткам лишь в специально отведенном для этого зале в определенные начальством дни и часы. Но мы все очень легко обходили эти строгости и прятали наших гостей студентов за оконный занавес при предварительном стуке в дверь комнаты нашей инспектрисы.
В то время в жизни студенчества очень большую роль играли землячества, объединявшие вокруг себя учащуюся молодежь, приехавшую их различных уголков России. Я, конечно, тоже не замедлила вступить членом в наше владимирское землячество, и не пропускала ни одного его собрания. Царское правительство относилось, как известно, очень подозрительно и недружелюбно к различным сборищам молодежи. Я помню, как осторожно по одиночке расходились мы с этих собраний и как, несмотря на все эти предосторожности, по нашим следам рыскали агенты тайной жандармерии, почему-то одетые действительно, или как это было принято думать в то время, в пальто горохового цвета. На земляческих собраниях обсуждались тогда самые жгучие общественные вопросы современности и раздавалось несколько приглушенное из предосторожности пение общепринятых в то время революционных песен. Помимо земляческих собраний студенческая молодежь нашего времени участвовала также в различных социал-демократических кружках, изучавших марксистскую литературу. Вошла в один из подобных кружков, конечно, и я вместе с моими двумя приятельницами-землячками Надей Фаворской и Марусей Соболевой. В противоположность земляческим кружкам, эти марксистские кружки были обычно малочисленны.
Нашим кружком руководили проживавшие в то время на Литейном проспекте врач-глазник Григорий Семенович Канцель и его жена Лидия Иосифовна Цедербаум. Вся семья Цедербаумов, включая и самого младшего ее члена-гимназиста Володю, была в то время глубоко захвачена социал-демократическим движением. На стене той комнаты, где мы изучали Эрфуртскую программу, висел портрет брата Лидии Иосифовны Бориса, сосланного куда то на далекий север Сибири. Другой брат ее, кажется, Сергей, принимал самое активное участие в революционном красном кресте. Я помню, как мы под его руководством собирали средства на этот крест на одном из балов, организованных для своих слушательниц Бестужевскими курсами. На этом вечери присутствовали Короленко со своей дочерью, известный критик того времени Михайловский и поэт Бальмонт. Я была приставлена организационным комитетом курсов к Бальмонту и должна была занимать его разговорами и следить за тем, чтобы он не выпил лишнего до своего выступления, намеченного программой вечера.
На этом вечере, как это выяснилось значительно позднее, присутствовал и мой будущий муж, тогда студент первого курса Военно-медицинской академии.
На этом вечере я познакомилась с одним из студентов какого-то технического института, украинцем по национальности, фамилии которого я не помню. После этого он часто навещал меня в общежитии курсов. Он был значительно старше меня и вел со мной разговоры на различные серьезные общественные темы. Я тогда была очень молода, мне шел всего семнадцатый год, меня товарищи по землячеству называли «бебе».
Очень быстро пролетели осень и зима того года и уже наступила весна. Я была в панике, так как надо было сдавать экзамены на математическом факультете, на лекциях которого я почти никогда не бывала, конспектов этих лекций также не имела. Но судьбе было угодно избавить меня от этих экзаменов. Той весной по всем городам России, где были какие-либо учебные заведения, разлилась волна студенческого революционного движения. Начались студенческие забастовки, демонстрации с различными революционными лозунгами. Прежде всего это движение охватило столичное студенчество. Я теперь уже смутно помню, было ли это на Невском проспекте или на Васильевском острове, когда за нашей многолюдной студенческой демонстрацией гнались казаки на лошадях и стегали нас своими нагайками.
В стенах Бестужевских курсов тоже было неспокойно. Не прекращались студенческие митинги. Я с небольшой группой слушательниц занималась тем, что стоя внизу лестницы, ведущей в аудитории, убеждала профессоров на время студенческих забастовок прекратить чтение лекций. В это время сверху вниз спускался Раев. Заметив меня, он остановился и, обращаясь ко мне сказал: «Как и Вы тут? Участвуете в этом безобразии?» Через несколько дней после этой встречи я наряду со многими другими студентками была исключена с курсов без права поступления в какие-нибудь другие высшие учебные заведения. Такой же репрессии подверглись и другие члены нашего землячества. Что же нам оставалось делать? Возвращаться домой? Я помню, что я вместе со своим чемоданом явилась на вокзал. Когда наш поезд уже начал медленно отходить от платформы, мои товарищи с трудом втащили меня с моим багажом на площадку вагона.
Несколько смущенная предстала я перед своими родителями, но они довольно благодушно отнеслись к моему исключению с курсов. Вообще у меня с моими родителями всегда были хорошие, чисто товарищеские отношения и они беспредельно доверяли мне. Был лишь один пункт, в котором мы расходились. Мой отец и мать, как уже было отмечено выше, были религиозны, причем придавали большое значение различным религиозным обрядам. И вот, когда мне исполнилось шестнадцать лет, я впервые твердо заявила в великом посту своему отцу, что я не буду причащаться, так как это противоречит моим убеждениям. Он был глубоко потрясен этим и с тех пор перестал настаивать на моих посещениях церкви.
Так начался трехлетний период моего пребывания в Коврове под отцовской кровлей. Некоторое время после своего возвращения домой я еще наслаждалась домашним уютом, поездками с мамой и братьями в лес за грибами, купаньем в реке Клязьме, но вскоре все это мне надоело. В ту эпоху все девушки моего возраста в нашем городе мечтали лишь о замужестве и им было непонятно мое стремление к какой-то иной, более содержательной жизни. Так как в самом Коврове, в котором была лишь одна улица с плохими тротуарами, гулять было негде, то обычно вся наша молодежь по вечерам устремлялась на вокзал и там гуляла по станционной платформе в ожидании скорого поезда, проходившего мимо Коврова из Нижнего в Москву. Я наряду с другими, вместе с моей приятельницей Настей Дунаевой, участвовала в этих прогулках и остро завидовала пассажирам поезда, направлявшегося в Москву. Но вскоре, поняв всю бесплодность своих мечтаний, я начала думать о том, как сделать более содержательным свое пребывание в Коврове, не покидая его.
Чтобы быть независимой в материальном плане от своих родителей и таким образом накопить понемногу средства на поездку заграницу, о которой я еще тогда начала мечтать, я поступила в качестве машинистки в так называемый Уездный съезд, который помещался в одном здании с Земской Управой. В этом же здании находилась довольно хорошая библиотека, принадлежавшая, кажется, Земской управе. Пользуясь очень широко этой библиотекой, я брала оттуда все выходящие в то время журналы и таким образом могла ориентироваться во всем, происходящем не только у нас в России, но и заграницей, конечно, учитывая цензурные условия того времени. Там же я встретилась с моим будущим женихом, в то время бывшим секретарем Земской управы, Петром Валентиновичем Егоровым и с земским статистиком Всеволодом Петровичем Кащенко. Оба они были весьма оппозиционно настроены в отношении царского режима. Вскоре я познакомилась и с двумя другими представителями местной интеллигенции, именно с Николаем Михайловичем Иорданским, служившим в то время в Коврове в качестве судебного следователя и с только приехавшим туда инженером железнодорожных мастерских Яшновым. Хотя все перечисленные мною лица были намного старше меня, все же это обстоятельство на помешало нашему дальнейшему сближению, так как нас объединяло одно общее стремление внести какую то живую струю в окружающую нас затхлую атмосферу, в которой мы одинаково задыхались. Чаще всего мы собирались по вечерам в уютной столовой Иорданских, где нас гостеприимно встречал как сам Николай Михайлович Иорданский, так и его жена Наталья Александровна.
С большим удовольствием вспоминаю я эти вечера и наши оживленные споры по поводу самых различных актуальных вопросов того времени.
Но наш кружок не ограничивался этими спорами, а поставил своей задачей организацию различных культурно-просветительных учреждений в нашем городе. Так нами была организована библиотека-читальня, воскресная школа, народный театр при железнодорожных мастерских. Я лично заведовала библиотекой-читальней, в которой я всячески старалась познакомить рабочих, посещающих эту библиотеку, с такими литературными произведениями, как «Овод», «Спартак» и другими, подобно им, проникнутыми революционными идеями. И каково было мое разочарование, когда наши читатели отказывались от этих книг и требовали что-нибудь «про графов и князьев». Принимала я также самое активное участие в постановке любительских спектаклей в театре при железнодорожных мастерских. С помощью моего отца и Николая Михайловича Иорданского нам удалось также проникнуть в острог и в нем организовать для арестантов по воскресеньям чтения с волшебным фонарем.
Хотя всей этой культурно-просветительской работе я отдавалась с большим увлечением, но все же помня заветы Невзоровых и Цедербаум, я стремилась к тому, чтобы наладить, хотя бы в самых скромных размерах, революционную работу среди рабочих на прядильно-ткацкой фабрике, единственном, кроме железнодорожных мастерских производстве в нашем городе. В этом отношении мне в значительной степени помогла моя работа в библиотеке, где я встречалась со многими рабочими, получавшими книжки и таким образом смогла нащупать среди них подходящих людей для организации подобного нелегального кружка. Таким образом, был организован мной небольшой социал-демократический кружок из рабочих указанной фабрики.
В это время произошел возмутительный факт отлучения синодом от церкви Льва Толстого. Члены нашего кружка были возмущены этим и просили меня во время моего ближайшего посещения Москвы передать Толстому их адрес, в котором они выражали ему свое сочувствие по поводу этого отлучения. В Москве же в то время я бывала довольно часто, так как раз в месяц в Ковров из Владимира приезжала так называемая сессия Окружного суда и так как представителем этой сессии являлся мой отец, то нам каждый раз приходилось принимать у себя и угощать приезжающих судейских. Перед их приездом мне приходилось по просьбе моей матери ездить в Москву за различными, не имевшимися в Коврове, продуктами.
Воспользовавшись ближайшей из таких поездок, я пошла к Толстому, чтобы передать ему адрес членов нашего кружка. В это время он жил со своей семьей в Хамовническом районе Москвы. Его небольшой деревянный двухэтажный особняк был окружен таким же деревянным забором. С большим душевным трепетом подходила я к этому дому. В то время из широко распахнутых ворот выехала пара лошадей, запряженных в элегантную коляску, в которой сидели две молодых женщины, по-видимому, дочери Толстого.
В передней меня встретил лакей и попросил подождать, пока он доложит обо мне графу в соседней большой комнате. В комнату, где я ожидала, вошла Софья Андреевна, держа в руках детскую шарманку. Заметив меня, она любезно кивнула мне головой. В это время спустился с верхнего этажа секретарь Льва Николаевича Толстого, судя по фотографиям, Гусев, и, расспросив меня о цели моего посещения, попросил меня следовать за ним во второй этаж дома. Поднявшись по лестнице мы очутились в небольшой, низенькой комнате. Лев Николаевич сидел в т время на низенькой табуретке и починял какой-то старый сапог. Увидев меня, он поднялся и, сделав несколько шагов в моем направлении и поздоровавшись со мной, стал внимательно читать переданный мной ему адрес. С первого взгляда он произвел на меня впечатление невысокого роста, худого старика. Одет он был, насколько я помню, в серого цвета рабочую блузу, подпоясанную ремнем. Прочитав адрес, он поднял на меня свои серые, глубоко запрятанные в глазных орбитах глаза, и, попросив меня присесть, стал подробно расспрашивать об участниках нашего кружка, приславших ему выражение своего сочувствия по поводу отлучения его от церкви. Прощаясь со мной, он просил передать им свой сердечный привет, причем добавил: «Вы непременно скажите им, что я ведь далеко не совсем согласен с существующей церковью».
Секретарь Льва Николаевича пошел проводить меня до Малой Бронной, где в то время жила семья Златовратских, у которых я остановилась. По дороге мы говорили с ним преимущественно о Зубатовщине и том вреде, который она может принести рабочему движению. По возвращении из Москвы, жизнь моя вошла в свою привычную колею. Особенно любила я любительские спектакли, в которых я участвовала в организованном нами театре в железнодорожных мастерских. Играла я тогда роль Сони в «Дяде Ване» Чехова, роль Бронки в пьесе «Снег» Пшибышевского и различные другие роли так называемых в то время драматических инженю. Играла я, по-видимому, неплохо, и все мои друзья настойчиво советовали мне избрать сценическую деятельность, которая меня саму сильно привлекала. Я вспоминаю то наслаждение, которое я испытывала каждый раз, чувствуя тот трудно объяснимый контакт, который устанавливался между мной и зрительным залом в случае какой-нибудь удачно исполненной мною роли. В связи с этим я вспоминаю один случай в моей театральной практике. Мы ставили «Дядю Ваню». Я, как всегда, играла Соню и на этот раз почти непрерывно чувствовала свой полный душевный контакт со зрителями. И вдруг наш горбатенький старичок суфлер, не дав мне закончить последнего моего монолога «Мы увидим небо в алмазах», дал знак опустить занавес. Когда я потом спросила, почему он это сделал, он сказал, что ему показалось, что мне дурно. Очевидно, на этот раз я переборщила в своем стремлении быть естественной на сцене.
Вскоре после того, как я вернулась домой из Петербурга, я начала упрашивать моих родителей дать мне возможность поехать в один из заграничных университетов учиться медицине. Но на этот раз мои отец и мать, обычно довольно уступчивые, заняли непримиримую позицию и в течение почти трех лет не давали мне возможности получить заграничный паспорт и уехать. Думаю, они просто боялись меня, семнадцатилетнюю девочку, отпустить так далеко и ожидали, когда я стану немного постарше и опытнее в житейском отношении. При этом обычно они мне говорили, что у них нет денег, а что имеющиеся в тот момент деньги крайне необходимы, чтобы сделать новые ворота или погреб и прочее.
В то время в одной из московских газет появилось извещение о предстоящем открытии студии Художественного театра. Прочитав это объявление, я решила поехать в Москву и попытаться поступить в эту студию. Приехав в Москву, я прошла к Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко и рассказала о своем желании посвятить себя сценической деятельности, для чего мне было необходимо поступить в студию. Владимир Иванович отнесся очень внимательно к моему пожеланию и направил меня со своей запиской к Константину Алексеевичу Станиславскому. К.А. Станиславский, в свою очередь, меня встретил очень приветливо и предложил прочесть отрывок из какой-то классической трагедии, но какой именно – я не помню. По прочтении этого отрывка он мне сказал: «Все хорошо, только у Вас недостаточно громкий для сцены голос, впрочем, это вполне исправимый дефект. Оставьте свой адрес, мы известим Вас, как только откроется студия».
Окрыленная самыми радужными надеждами, я возвратилась домой, но не сказав ничего о встрече со Станиславским своим родителям, продолжала настойчиво просить их дать мне возможность получить заграничный паспорт. Что же заставляло упорствовать меня и теперь, когда у меня была полная возможность поступить в студию художественного театра, на поездке за границу? Я не переставала мечтать о том, как, окончив медицинский факультет, я получу место фабричного врача и смогу таким образом свободно вести революционную пропаганду среди рабочих. Что же касается Художественного театра, то я считала в то время, что хотя это и замечательный театр, но все же он доступен лишь сравнительно узкому кругу состоятельных людей, а не широкой массе рабочих.
Наконец, мои родители согласились дать мне возможность поехать учиться заграницу и стали хлопотать о выдаче мне заграничного паспорта, уже приближался сентябрь месяц, а никакого ответа ни от Владимирского губернатора о предоставлении мне заграничного паспорта, ни из Художественного театра относительно приема меня в студию, я не получила. И, наконец, какова ирония судьбы, в один и тот же день я получила заграничный паспорт и телеграмму из Художественного театра с предложением явиться в открываемую студию в театре.
И мне, неопытной девятнадцатилетней девушке, выпало на долю сделать выбор между двумя так неожиданно представившимися мне жизненными путями – сценической и врачебной деятельностью. Тогда я показала моим родителям телеграмму из Художественного театра и они стали уговаривать меня не ехать заграницу, а поступить на студию. Так же поступить мне советовал и мой жених. В то время были в моде ротонды на покрашенном в розовый цвет меху и мама шутя мне говорила, что она как только я поступлю в студию, подарит мне такую ротонду. Им всем, конечно, не хотелось, чтобы я уезжала так далеко. Но и помимо этого работа в таком исключительном театре, как Художественный театр, безусловно, должна была импонировать каждому. Привлекала она, конечно и меня, но все же я не колеблясь остановила свой выбор на врачебной деятельности и при этом смотрела на эту деятельность лишь как на средство, а конечной целью все же являлась революционная борьба с самодержавием.
У меня за три года вынужденного пребывания дома установились очень теплые отношения с моим женихом. Это был исключительно добрый, отзывчивый на все хорошее человек. Но любила ли я его? Не думаю. Я была тогда еще слишком молода, чтобы как следует, по существу ответить на этот вопрос. Мой отъезд заграницу не менее, чем на пять лет, конечно, был ему не по душе, но он был настолько деликатен, что старался не показывать мне этого и говорил, что все равно он будет ждать меня хоть десять лет.
Уезжала я не одна, а со своей закадычной подругой по гимназии Сашей Семинихиной. Ни я, ни она дальше Москвы и Петербурга почти нигде не бывали, а о Западной Европе имели лишь самые скудные сведения, полученные в гимназии из учебника географии. В какую же страну направить свой путь? Какой город выбрать? Чтобы как-то решить этот вопрос, мы взяли энциклопедический словарь и положили перед собой карту Западной Европы. Наконец, границы нашего выбора благодаря энциклопедическому словарю и географической карте значительно сузились и мы стали колебаться лишь между немецкими университетскими городками, расположенными на берегу Рейна и швейцарскими университетами. Чем же, по существу мы руководствовались в нашем выборе? Прежде всего и больше всего, красотой природы, так как мы с Сашей мечтали о том, как в каникулярное время мы с рюкзаками за плечами будем бродить по неведомым нам местам и любоваться природой. В этом отношении нас больше всего привлекала Швейцария с ее горами, озерами и водопадами. Помимо этого, в стране находилась Женева, центр русской революционной эмиграции.
В конце концов, после долгих колебаний, мы остановились на Лозаннском университете. Наступил день нашего отъезда. Саша со старушкой матерью жила в Москве. Мои родители, в свою очередь, решили проводить меня до Москвы. Петр Валентинович был болен и проводить меня не смог. В Москве, как всегда, мы остановились на Цветном бульваре в номерах Ечкина. На другой же день после нашего приезда в Москву, мы с Сашей должны были отправиться дальше через Австрию, Тироль в Швейцарию.
Как только отошел наш поезди скрылись из виду дорогие нам лица наших близких, мы с Сашей стали горько плакать. Но уде на другое утро слезы наши высохли и мы наслаждались прекрасным видом, открывающимся перед нашими глазами. В Вене мы бродили по городу, любовались Дунаем, и вечером пошли в Претер на народное гулянье. Там нам захотелось покататься на знаменитом в то время венском колесе-качелях, с которых открывался чудесный вид на Вену с птичьего полета. Дальше дорога шла через Тироль с его чудесными лугами, с бесконечными туннелями и зигзагообразными подъемами и спусками в тирольских горах.
В Лозанну мы приехали под вечер. Шел проливной дождь. Куда направить дальше наш путь, где остановиться, мы не знали. Говорить по-французски мы не умели. Наконец, подойдя с нашими чемоданами к стоявшему возле вокзала кебу, мы сказали кучеру одно слово «отель» и он через несколько минут остановился перед какой-то гостиницей. Улеглись вдвоем в большую деревянную двуспальную кровать и, завернувшись во влажные простыни, мы крепко уснули.
Рано утром, позавтракав поданным нам в больших глиняных кружках кофе с рогаликами, мы пошли осматривать город. Погода была прекрасная. Прежде всего, поднявшись по исторической деревянной лестнице с очень большим количеством ступенек, мы попали в самую старинную часть Лозанны с готическим собором пятисотлетней давности и с таким же старинным университетом. Оттуда открывался чудесный вид на город: и на Женевское озеро, и на Савойские Альпы. Вскоре открылась канцелярия университета, где в обмен на наши гимназические дипломы мы получили от старичка секретаря студенческие билеты. При этом мы не чувствовали под собой ног от счастья, с трудом веря тому, что наконец наша мечта сбылась.
В гостинице оставаться долго мы не могли, так как нам не позволяли такой роскоши наши очень ограниченные средства и мы приступили к поискам комнаты. Это оказалось дело совсем не легким во первых потому, что мы очень плохо знали французский язык, а во вторых, потому, что добродетельные швейцарцы терпеть не могли русских студенток, считая их безнравственными, и очень неохотно сдавали им комнаты. Наконец, мы нашли небольшую комнату у одной пожилой швейцарки.
Благодаря ежедневному общению с этой квартирной хозяйкой мы стали понемногу усваивать французскую разговорную речь. При этом она особенно старалась научить нас так называемым «комплиментам», которыми изобилует, в противоположность нашей русской речи, повседневная французская речь, то есть таким выражениям, как, например, «очень Вам благодарна», «весьма Вам благодарна», «чрезвычайно Вам благодарна», «извините», «тысячу извинений» и прочее. Но не успели мы овладеть употреблением комплиментов, как она отказала нам в комнате, мотивируя тем, что к ней неожиданно приезжает ее сын. Так как не было подходящей достаточно просторной для двух человек комнаты, мы решили с Сашей разойтись и нашли каждая из нас себе маленькую самостоятельную комнатку.
В Лозанне в то время была, в противоположность Женеве, небольшая русская колония, состоявшая из русских (в подавляющем большинстве еврейского происхождения) эмигрантов и их семей. Как только я приехала в Лозанну, я постаралась перезнакомиться с некоторыми из представителей этой эмиграции, преимущественно с женской половиной. Но из этого знакомства толку вышло мало. Мне трудно сказать теперь, почему так получилось, многое уже забылось. Во-первых, уже наступил учебный год и нам, плохо знающим французский язык, пришлось очень плохо. Мы усердно посещали лекции по сравнительной анатомии, зоологии, ботанике, физике, химии, но почти ни одного слова из того, что говорил профессор, не понимали. Во время лабораторных занятий дело обстояло несколько лучше, так как кроме нас были и другие русские студенты, которые, правда, являясь в этом исключением, лучше владели французской речью, чем мы и охотно помогали нам в первое время объясняться с руководителями лабораторных занятий. Особенно было тяжело в этом отношении Саше, так как никаких других познаний в языке, кроме полученных в гимназии, она не имела. Что касается меня, то приблизительно за полгода перед поездкой за границу я начала брать частные уроки французского языка у одной француженки, оказавшейся в нашем городе. Но и мне в указанном отношении было тоже очень трудно и приходилось сплошь все вечера, а иногда и ночи, а также и праздничные дни проводить за учебниками по всем предметам, которые преподавались на первом курсе медицинского факультета. Эта чрезвычайная занятость была одной из главных причин недостаточного общения моего с русской эмигрантской средой. Были еще и другие, менее значительные причины, среди которых приходится упомянуть о некотором настороженном отношении со стороны эмигрантов ко всякому новому человеку, появлявшемуся в их среде. И эта, как я тогда ее называла, «шпиономания» также до известной степени мешала налаживанию этих взаимоотношений. И в этом до известной степени я сама была виновата, не позаботившись захватить с собой из дому от Невзоровых или Цедербаум или каких-нибудь других социал-демократических кругов рекомендацию, которая могла бы гарантировать сразу мне доверие со стороны эмигрантской среды.
Чтобы быстрее освоить разговорную французскую речь, я вскоре решила оставить свою комнату и поселилась в одном из дешевых швейцарских пансионов, где жили учащиеся, принадлежавшие к самым различным национальностям. Общаясь с ними во время завтраков и обедов, я невольно должна была говорить по-французски. Но, к сожалению, с указанной точки зрения, и в этих пансионах было много наших соотечественников, с которыми приходилось говорить по-русски, но помимо них за столом все же встречались студенты немцы, итальянцы, турки, а также представители некоторых других национальностей. Со всей этой студенческой молодежью у меня быстро наладились хорошие товарищеские отношения с некоторым оттенком легкого флирта со стороны некоторых из них. Так, один студент-немец, прозванный нами «бебе» благодаря его молодости, пируя со своими друзьями в кафе, почти ежедневно посылал мне по почте в виде приветствия подставку из-под пивной кружки, а другой, итальянец, по праздникам пел под моим балконом серенады под аккомпанемент гитары. Но я была слишком обременена своей студенческой учебой и благодаря этому не имела ни времени, ни желания как бы то ни было реагировать на эти ухаживания. Родители мне ежемесячно посылали по 40 рублей, помимо платы за ученье, и, так как русский рубль в то время котировался довольно высоко, а жизнь в Швейцарии была довольно дешевой, я жила безбедно, не нуждаясь особенно ни в чем.
В указанном пансионе, который содержала пожилая, полная швейцарка мадемуазель Бонзон с синеватым румянцем на щеках, характерным для многих жителей гористых местностей, я прожила ряд лет и, так как состав его жильцов сравнительно редко менялся, мы все за обеденным столом невольно подружились.
Что касается взаимоотношений с местными, швейцарскими студентами, то они налаживались гораздо трудней и ограничивались в большинстве случаев ежедневным приветствием при встрече и самым необходимым контактом в стенах лабораторий. В то время высшее образование в Швейцарии обходилось довольно дорого и было мало доступно сыновьям швейцарцев со средним достатком. Поэтому на нашему курсе было сравнительно немного студентов-швейцарцев, в общем, почти столько же, сколько русских студентов и студентов различных других национальностей. Причем среди русских студентов мужчины представляли из себя исключение по сравнению с подавляющим большинством девушек.
Кажется, во время второго года обучения в нашем Университете, когда мы все в особом, предназначенном для этой цели небольшом здании проходили анатомию человека, физиологию, гистологию и эмбриологию, произошел следующий неприятный инцидент, способствовавший в дальнейшем еще большей изоляции русской и швейцарской студенческих групп. Швейцарские студенты подали университетскому начальству жалобу, в которой они писали о том, что, мол, русские студенты и студентки занимают первые, лучшие места в аудиториях и в лабораториях, и таким образом, мешают занятиям их, коренных швейцарских студентов.
Все это было, конечно, сплошным вымыслом, так как первые скамьи в аудиториях и лучшие места в лабораториях обычно занимали первые пришедшие, совершенно независимо от того, были ли это русские или швейцарцы. Мы, русские студенты, были глубоко оскорблены таким антитоварищеческим поведением наших товарищей швейцарцев. Что касается университетского начальства, оно это заявление оставило без особого внимания, по-видимому, не желая портить своих взаимоотношений с русским студенчеством, составлявшим не менее половины всей студенческой массы, из чисто материальных соображений.
…Живя в пансионе Бонзон, я очень близко сошлась с одной русской семьей, именно с семьей Садовских, состоявшей из пожилой, но все еще довольно красивой Ксении Михайловны Садовской и двух ее подростков-дочерей – шестнадцатилетней Тани и транадцатилетней Иры и мальчика-сына лет двенадцати – Вадима. Ксения Михайловна была женой Владимира Степановича Садовского, юриста, очень видного специалиста по международному морскому праву, жившему в Петербурге. Ксения же Михайловна жила с детьми в Швейцарии из-за сына Вадима, страдавшего туберкулезом легких. В то время как я с ними познакомилась, мальчик уже в значительной степени поправился и посещал французский колледж.
Ксения Михайловна хорошо знала французский язык, пела, играла на рояли, была очень остроумна и благодаря всем указанным качествам легко собирала вокруг себя молодежь различных национальностей. Так случилось и в пансионе Бонзон. Как выяснилось несколько позднее, Ксения Михайловна была первой любовью в то время шестнадцатилетнего поэта А. Блока, с которым она встретилась на курорте Наугейм, где она лечила свое сердце. У нее, на дне ее большого сундука, с которым она путешествовала, сохранилась перевязанная красной ленточкой связка писем Блока, но, будучи плохо знакома с русской литературой, она этим письмам не придавала особого значения. Происходила Ксения Михайловна, если мне не изменяет память, из небогатой семьи кишиневских помещиков. Окончив гимназию, она поступила в консерваторию по классу пеня, но не окончила ее, потеряв голос в результате какого-то заболевания. Её муж Владимир Степанович Садовский был значительно старше Ксении Михайловны. Последние пять лет они жили порознь из-за болезни сына, он с дочерьми в Петербурге, а она с мальчиком сначала во Франции, где то возле Пиренеев, затем на берегу Средиземного моря в Сан-Ремо и, наконец, в Швейцарии, именно в Веве и в Лозанне, постепенно переходя из более теплого климата в более холодный. В тот год, когда я с ними познакомилась, девочки уже жили с матерью, а отец один продолжал жить в Петербурге. Во время частых заграничных командировок он навещал семью. Летом вся семья собиралась вместе где-нибудь в горах Швейцарии.
Между мной и Ксенией Михайловной была очень большая разница в возрасте, но это не помешало возникновению между нами самых дружеских отношений. Во время летних каникул, если я не уезжала домой, то проводила лето вместе с семьей Садовских. Хорошо было отдыхать летом высоко в горах, прислушиваться к шуму водопадов, к гортанным звукам йодля швейцарских пастухов и вдыхать пряный аромат полевых горных цветов, растущих вокруг коттеджа.
Во время же весенних каникул с рюкзаком на плечах я бродила с подругой по горам или уезжала в Итальянскую Швейцарию, где в то время уже цвели магнолии и усыпаны были розовыми цветами персиковые деревья.
Но и самое прекрасное, если оно долго длится, надоедает. Так и я, пробыв около трех лет в Лозанне, решила на один год поехать учиться в Париж. Поселилась я в Латинском квартале, населенном парижскими студентами с их изящными гризетками. Питалась я в одном из маленьких ресторанчиков на бульваре святого Михаила, где за один франк можно было получить обед из трех блюд и бутылку любимого парижанами яблочного сидра или красного вина. На медицинском факультете парижского университета я слушала знаменитых в то время профессоров. Вскоре вслед за мной потянулась в Париж из Лозанны и семья Садовских. Поселилась я с ними возле Парижа в небольшом местечке Сен Ле Таверни, откуда по вечерам мы любовались заревом Парижа.
Подружились мы там с двумя ветхими старичками, мужем и женой Дюбуа и вместе с ними собирали каштаны в их саду. Занимали мы там небольшую двухэтажную виллу, обслуживала нас миловидная беременная француженка Мария, покинутая своим мужем. В дворе лаял мой любимый пес Пирам.
Как в Лозанне, так и в Париже мы устраивали любительские спектакли, на которых присутствовала русская колония. В Лозанне на таких спектаклях постоянными посетителями были сын Герцена, наш профессор физиологии, и его внук юрист. Чаще всего мы ставили там пьесы Чехова.
Помимо этого, воспользовавшись своим пребыванием в Париже, я в течение всего учебного года брала уроки декламации у одного артиста театра Одеона. Это говорит о том, что хотя я и отказалась от студии художественного театра, но в глубине души мечтала о том, что мне может быть удастся в дальнейшем как-то соединить сценическую деятельность с работой врача.
Очень быстро промелькнул год моего пребывания в Париже. Надо было возвращаться в Лозанну и продолжать там прерванную на время учебу. Поселившись в том же пансионе Бензон, я с большим увлечением занялась изучением различных клинических медицинских дисциплин, тем более, что к тому времени я настолько овладела французским языком, что даже нередко думала по-французски. В это время кафедрой хирургии в Лозаннском университете заведовал хирург с мировым именем, Цезарь Ру, в клинику стекались больные самых разных национальностей. Это был не только исключительный специалист, но и исключительная личность, который учил нас не только хирургии, а также и тому, как следует жить, чтобы иметь право носить имя человека.
«Не ставьте ваш идеал в подвал», – нередко говорил он нам. И он сам показывал нам всегда пример постоянного беззаветного служения больному человечеству. Его влияние на нас было настолько велико, что позднее, в течение всей своей дальнейшей жизни, когда я начинала сомневаться, как следует поступить в том или в другом случае, я невольно думала: «а как бы в данном случае поступил Ру?»
Будучи в Париже, я увлеклась психиатрией и работала в одной из психиатрических клиник Парижа – в убежище святой Анны, под руководством профессора Маньяна. Я думала, что по окончании университета стану психиатром.
Но когда я вернулась в Лозанну, под влиянием обаятельной личности Ру и его прекрасного преподавания я невольно увлеклась хирургией и на пятом курсе, еще будучи студенткой, начала добиваться, чтобы Ру допустил меня к работе в его клинике наряду с другими ассистентами. Этого вообще было очень трудно добиться, особенно мне, русской студентке, но все же я этого, невзирая на трудности, добилась, а по окончании университета я осталась экстерном при той же хирургической клинике, там же защищала свою докторскую диссертацию.
Это были годы упорного труда, но любимого, увлекательного труда под руководством незаменимого учителя. Я вставала ежедневно в пять часов утра и в шесть часов уже была в клинике, так как в семь часов приходил профессор и до его прихода надо было успеть осмотреть больных в трех палатах, которыми я в то время ведала. После профессорского обхода начиналась обычная очередная лекция и после нее шли операции, количество которых иногда доходило до пятнадцати в день. После ухода профессора из клиники, мы все, экстерны и интерны, вместе со старшим ассистентом Кампишем собирались в нашей ассистентской комнате и пили вермут.
После этого, закончив очередную работу по отделению, мы шли в общую столовую, где нас ожидал обед. Я вспоминаю, что в то время, как я работала в хирургической клинике, за столом нас было всего девятнадцать человек, из которых восемнадцать было мужчин и я одна – женщина. И почти за три года моей работы с моими дорогими товарищами я никогда не услышала ни одного грубого слова. Они меня за мое несколько сдержанное поведение прозвали «принцессой», и я на днях, перерывая мои бумаги, вдруг нашла научную работу на французском языке доктора Фрица Дюмона, одного из моих товарищей по хирургической клинике, посвященную «принцессе».
Во время наших обедов царило всегда большое оживление, было много различных шуток и смеху. Университетские клиники находились в кантональном госпитале, а кантон Во издавна славился своими виноградниками и поэтому мы, работники госпиталя, неизменно были снабжены в изобилии прекрасными винами. Это еще более способствовало оживлению за нашим врачебным столом. Кончался обед и каждый из нас снова возвращался в свое отделение, где нередко приходилось оставаться до самого вечера. Работать приходилось очень много, так как на нас, врачах, в то время лежали и самые разнообразные фельдшерские обязанности, так как непосредственными нашими помощницами в отделениях были тогда сестры-дъяконессы, не имеющие никакого медицинского образования. С чувством глубокого восхищения вспоминаю я об их трогательном отношении к больному, об их прекрасном уходе за ним, мы не сходились с ними лишь в одном. Будучи религиозными, ни нередко, имея дело с безнадежными больными, вместо того, чтобы скрыть от них всю тяжесть их заболевания из чисто религиозных побуждений подготовляли их к смерти.
Прекрасная природа, увлекательная работа под руководством Ру, все это делало очень приятным мое пребывание в Лозанне и все же, несмотря на все это, я временами начинала сильно тосковать по своей родине, по ее бесконечным просторам, по своим близким. Меня начинали тогда давить швейцарские горы и я с кем-нибудь из своих приятельниц или одна садилась в поезд и ехала по направлению к Женеве, где ровная местность и отсутствие гор напоминали мне родину. А когда я приезжала изредка домой, то меня наоборот, вскоре начинало тянуть из мрачного царства самодержавия, арестов, забастовок снова в Швейцарию с ее солнцем, горами и сравнительной политической свободой. И тогда я себе уже ясно представляла относительность этой свободы и неоднократно имела возможность убедиться в глубоко мещанском укладе жизни многих швейцарских горожан, в их любви к военщине, их отрицательном отношении к высшему женскому образованию, в нередко своеобразном понимании ими морали. Многие из них глубоко отрицательно относились тогда к нашей учащейся молодежи, особенно к учащимся девушкам, и стоило какому-нибудь русскому студенту побывать в гостях у русской студентки, погулять с ней по городу, как уже ее швейцарки начинали обвинять чуть ли не в разврате. Правда, и среди швейцарцев, например некоторых наших товарищей по учебе и в дальнейшем по работе, нам пришлось столкнуться с людьми глубоко интеллигентными, не разделяющими этих мещанских кодексов морали. Некоторые из них, например, профессор Ру и некоторые другие врачи, были женаты на русских, но мне лично почему-то тогда казалось, что если бы я вышла замуж, то только за своего соотечественника.
В это время я очень подружилась с одним студентом-болгарином Иваном Банчевым, приехавшим из знаменитой Долины Роз. Мы с ним очень часто встречались и обменивались своими мнениями о прочитанном, особенно увлекались мы в то время произведениями Ницше. Был у меня и другой друг – немолодой итальянец, скульптор Марзето, принимавший активное участие в социалистическом итальянском движении.
Изредка к нам в Лозанну приезжали с докладами из Женевы некоторые вожди нашего русского революционного движения, но это случалось довольно редко, а в самой Лозанне с нами, русской учащейся молодежью, систематической воспитательной работы, насколько мне помнится, никто не вел.
Однажды, когда я уже работала второй год в качестве экстерна в клинике Ру, ко мне в комнату постучала хозяйка пансиона Бонзон и попросила выйти в столовую, где меня ожидали приехавшие в Лозанну мои соотечественники. Это был один русский врач со своей сестрой из Одессы.
Им Бонзон сказала, что я работаю в клинике Ру и они решили посоветоваться со мной относительно того, как добиться того, чтобы Ру сделал операцию аппендицита сидевшей передо мной сестре этого врача. Я, конечно, сделала все, что от меня зависело, чтобы удовлетворить их, устроила больную в частную клинику Ру, несколько раз навещала ее. Брат же ее, пока она не поправилась, оставался в нашем пансионе. По его просьбе, я провела его в нашу хирургическую клинику, где он мог присутствовать как на лекции Ру, посвященной военной хирургии, так и на его операциях. Перед отъездом этот врач приглашал меня приехать в Одессу сдавать государственные экзамены, которые тогда необходимо было сдать всякому окончившему университет заграницей, чтобы получить русский врачебный диплом.
После этого прошло около двух лет, я продолжала работать в хирургической клинике и написала там свою диссертацию. Вдруг, я получила из дому телеграмму, в которой моя мать сообщала, что мой отец очень тяжело болен и просила немедленно приехать домой. Так, совершенно неожиданно пришлось расстаться мне со Швейцарией, с Лозанной, с моим учителем и со всеми моими товарищами по работе. Я считала, что я уезжаю ненадолго и мне в голову не приходило, что я уже больше никогда не вернусь в Швейцарию. Отец мой поправился, но я решила, пока все приобретенные мною за время учебы в Лозанне знания еще сравнительно свежи в моей памяти, сдать государственный экзамен в России. Легче всего это сделать, как говорили мне некоторые врачи, окончившие заграницей, при Дерптском университете. Так я и сделала. Мне очень понравился Дерпт, очень чистый, немецкого типа город, утопающий в зелени. С вокзала я прямо направилась в университет, расположенный, насколько я помню, на горе. Когда я заявила о своем желании держать при Дерптском университете государственные экзамены, секретарь сказал мне: «Вот, вам не повезло. Только вчера мы получили из Петербурга приказ Министра просвещения, в котором сказано, что все врачи, окончившие университет заграницей за разрешением держать государственные экзамены должны впредь обращаться в Петербург в министерство просвещения, которое им укажет, в каком городе они смогут подвергнутся экзамену.
Что же мне оставалось делать? Возвращаться домой или прямо из Дерпта ехать в Петербург за разрешением? Я решила ехать в Петербург, тем более, что я могла остановиться там у Садовских, так как Ксения Михайловна в то время уже жила со всей своей семьей в Петербурге. В это время министром просвещения был известный ретроград Кассо, считавший всех, окончивших высшее образование заграницей революционерами, почему он всячески старался затруднить получение ими русского диплома. Так было и со мной. Когда я пришла в Министерство, Кассо меня спросил, где я живу и когда я ему сказала, что живу во Владимире, он мне разрешил держать государственные экзамены в Томске или в Одессе, в то время как гораздо ближе к Владимиру находился ряд других университетов. Возвратившись домой, я, обдумав сложившееся положение, предпочла ехать в Одессу – южный, европейского типа город, расположенный на берегу Черного моря, чем ехать за тысячу километров в холодную Сибирь. При этом я вспомнила, что в Одессе у меня есть знакомые, именно тот врач с сестрой, которая оперировалась у Ру и которым я оказала в то время ряд услуг. Тогда я нашла их адрес и написала письмо, на которое вскоре получила очень любезный ответ с приглашением остановиться в Одессе у них. Задумано – сделано, тем более, что уже был август месяц, а в сентябре начинались государственные экзамены.
Приехав в Одессу, я остановилась в одной из гостиниц и пошла отыскивать своих знакомых. Дома я их не застала, так как они все жили у себя на даче. В Одессе тогда еще не было трамваев и я на конке приехала в тот дачный район, где находилась их дача. Меня очень радушно [приняли] как сама, бывшая больная, так и ее старушка мать, сердечно благодарившая меня за помощь, оказанную ее дочери на чужбине. Вскоре вернулся из города и ее сын, с которым я познакомилась в Лозанне. На семейном совете было решено, что он сейчас же поедет со мной за моим багажом в гостиницу и я проведу остаток лета у них на даче, тем более, что у них только что освободилась маленькая комнатка, которую они на лето кому-то сдавали. Комната эта имела отдельный выход в сад, так что я могла входить и выходить из нее, не стесняя никого из окружающих. С другой стороны рядом с моей комнатой находилась комната Бориса Петровича, так звали моего знакомого врача.
В самые ближайшие дни он любезно представил в мое распоряжение все имеющиеся у него, необходимые для сдачи государственных экзаменов учебники. Мне, как я узнала, предстояло сдать, кажется, не менее 27 экзаменов за все пять курсов медицинского факультета. И, о ужас, в то время, как в Лозаннском университете на медицинском факультете была принята французская номенклатура, в русских университетах, как в теоретических медицинских дисциплинах, так и в клинических, употреблялись исключительно латинские названия. Все это крайне усложняло мое положение. Но, не поддаваясь отчаянию, я усердно принялась за работу. В это время Борис Петрович, в свою очередь, начал готовиться к докторантским экзаменам, для сдачи которых требовалось повторение ряда тех же медицинских дисциплин, как и для государственных. Поэтому он любезно предложил мне эти дисциплины повторить вместе, большую же часть предметов я проходила одна.
В перерывах между занятиями мы гуляли по даче или Борис Петрович знакомил меня с окрестностями Одессы. По вечерам, когда все в доме ложились спать, мы с ним собирались в его комнате по соседству с моей и он читал вслух что-нибудь из классической русской литературы. Так, я помню, мы перечитали «Русских женщин» Некрасова.
И так день за днем мы стали обнаруживать значительную общность наших взглядов, наших вкусов и вскоре невольно почувствовали то тяготение друг к другу, которое принято называть любовью. В то время Борис Петрович заканчивал свою трехгодичную ординатуру при одной из клиник Новороссийского университета и по окончании докторантских экзаменов думал поехать в Петербург и там защищать диссертацию на степень доктора медицины. Уже был конец августа и приближались мои экзамены. Длились они очень долго, сдавать их мне было очень трудно, но все же я их сдала хорошо и получила диплом лекаря с отличием. Но я, измученная этими экзаменами до невероятия, как-то даже мало радовалась своей удаче и помимо этого я была в состоянии душевного смятения в связи с моим новым чувством, как-то совсем по-новому перестраивающим все мои дальнейшие жизненные планы.
В Коврове меня уже ожидал около десяти лет Петр Валентинович, ждал безропотно, и мы с ним решили наконец, что как только я закончу государственные экзамены, мы поженимся. В Лозанне же ожидала меня оставленная на время моя любимая клиника. Что же делать дальше? Какой выход из всего этого? Как дальше построить свою жизнь? А пока что, чтобы выиграть время, я со дня на день откладывала свое возвращение домой и там уже начали беспокоиться. За это время испортились мои взаимоотношения с родными Бориса. Благодарные вначале за заботу, проявленную мною в Лозанне к его сестре, они относились ко мне очень внимательно. Но как только почувствовали, что сердцу их Бориса угрожает опасность, они сразу резко изменили свое отношение. У Бориса было два старших брата и каждый раз, когда кто-нибудь из них собирался жениться, дома разражалась буря. Разразилась она и теперь – противная, мещанская буря. Продолжать с ними жить и теперь, когда испортились наши отношения, для меня стало невыносимым. Наконец, я поборола свою нерешительность, в общем, совсем несвойственную моему характеру, и поехала домой. Через месяц туда же должен был приехать Борис Петрович и мы решили повенчаться там, подальше от его родных.
Но как же быть с Петром Валентиновичем? В это время он работал во Владимире редактором одной местной газеты. Приехала я во Владимир в Рождественский сочельник, в день моих именин. Остановилась, как всегда, у тети и дяди Головатенко.
Встретили они меня очень сердечно и радовались окончательному завершению моей учебы. У меня на душе было очень тяжело, но тем не менее, я решила в тот же вечер повидать Петра Валентиновича, выпросить у него прощения за свое вероломство, а может быть, если я увижу, что он будет сильно потрясен всем случившимся, придется пожертвовать своим новым чувством во имя многолетних дружеских отношений с хорошим человеком. Но Петр Валентинович сразу же после моего признания, благодаря своей исключительной доброте облегчил мое положение, сказав: «Ну, не волнуйся, всяко в жизни бывает. Жизнь сложная штука». Когда я возвращалась к тетке, я горько плакала, идя по улицам, и слезы замерзали у меня на щеках. Но Рубикон быт так или иначе перейден. Приехав в Ковров, я быстро окунулась в повседневные интересы своей семьи, готовила свою младшую сестренку к предстоящим её экзаменам. В это время дома случайно оказался и мой младший брат Нитя. Он приехал домой на месяц, получив отпуск из уланского полка, где он в то время служил. Как уже было сказано выше, в детстве он был живым, шаловливым мальчиком. Когда пришло время учебы, он держал экзамены во Владимирскую гимназию, но провалился по арифметике. Пришлось остаться пока дома.
А тут как раз произошло одно событие, в корне повлиявшее на дальнейшую судьбу нашего Нити. Мой отец получил от Владимирского собрания дворян (мой дедушка одно время был предводителем дворянства в Гороховецком уезде Владимирской губернии) предложение отдать своего сына в один из московских кадетских корпусов на полную стипендию. Мой отец некоторое время колебался, а потом все же согласился отдать Нитю в кадетский корпус. Наша семья в то время в материальном отношении была вполне обеспечена. Отец получал ежемесячно триста рублей жалования, очень большую сумму по тому времени, тем более, что жизнь тогда, в общем, обходилась дешево. Например, фунт сливочного масла стоил всего двадцать копеек. Таким образом, в своем решении отдать Нитю в кадетский корпус мой отец руководствовался не материальными соображениями, некоторыми другими. Кадетские корпуса поставлены были значительно лучше других учебных заведений. Помимо этого соображения моим отцом руководило и другое, именно исключительная шаловливость Нити, с трудом подчинявшегося домашней дисциплине. Что касается меня, то я были категорически против помещения брата в кадетский корпус, так как я была уверена, что его засосет военная среда и он потом не захочет учиться дальше. Но постановление было вынесено и Нитю отвезли в Москву. Он учился хорошо, но продолжал там шалить отчаянно. Окончив кадетский корпус, Нитя, несмотря на все мои старания убедить его пойти в университет, пошел в кавалерийское училище, а оттуда в уланский полк. Шаловливый мальчуган превратился в юношу, отзывчивого на все хорошее, прекрасного товарища и яростного защитника нижних чинов против грубости и рукоприкладства различных командиров. Будучи в уланском полку, несколько позднее описываемых мною событий, он публично, в офицерском собрании дал пощечину одному из товарищей по работе, офицеру, жестоко избившему своего денщика. Не считая нужным извиняться перед ним, он оставил уланский полк и перешел на службу в один из пограничных отрядов на западной границе.
Несколько раньше, чем через месяц, приехал в Ковров и Борис Петрович. Остановился он в единственном в городе отеле, который простые люди называли «Нотель». Приехал к своей сестре, жившей в Коврове, и Петр Валентинович. Узнав об этом, мы решили, чтобы излишне не травматизировать его, повенчаться не в самом городе, а в одном из пригородных сел. Для этой цели было избрано село Малышево, расположенное в шести верстах от города. В качестве шаферов фигурировал Нитя в своем нарядном уланском мундире и папин письмоводитель, давнишний друг всей нашей семьи Назар Никифорович Лукьянов. К нашему дому подъехало в назначенный день двое украшенных коврами саней. В одни из них поместилась я, Нитя и моя сестренка Соня, в другие Борис Петрович с Назаром Никифоровичем. В церкви нас встретил сильно обросший пожилой священник. Во время венчания я чувствовала себя очень тревожно благодаря следующему обстоятельству. Накануне вечером, когда мы все, вместе с Борисом Петровичем сидели в нашей гостиной, расположенной возле передней и строили различные планы, касающиеся нашей дальнейшей с ним жизни, как вдруг со стороны лестницы до нас донеслись чьи то громкие рыдания. Прошло несколько минут замешательства, прежде чем кто-то из нас, не помню кто, вышел на лестницу. Но там уже никого не было и только перед самыми нашими дверями лежал букет цветов.
Обратно из церкви я ехала в одних санях с Борисом Петровичем и с Соней. В тот день была исключительно вьюжная погода и мы решили, что, по-видимому, такая же вьюжная предстоит нам жизнь. Так оказалось и на самом деле, но не будем опережать событий.
Когда на обратном пути из Малышева мы подъехали к околице села, там нас ожидала группа девушек и парней, по обычаю ожидавших выкупа. Дома же нас ожидали родители, мамина приятельница Утенька и жена Назара Никифоровича. По предварительному уговору, никаких гостей мы не пригласили. Родители нас встретили с Борисом хлебом и солью и благословили нас на хорошую жизнь старинной иконой божьей матери. Сейчас же после ужина мы все отправились на вокзал и первым поездом мы с мужем поехали в Одессу.
В Москве мы остановились в традиционных номерах Ечкина на Цветном бульваре и сейчас же пошли в два места – в фотографию, где снялись вместе, в память нашей свадьбы и в Художественный театр на шедшую в тот вечер у них «Синюю птицу».
На другой день мы пошли к Златовратским , с которыми я хотела познакомить своего мужа, а вечером снова были в Художественном театре на пьесе Чехова «Вишневый сад». Как же чувствовала я себя в Художественном театре после отказа моего поступить в его студию, не жалела ли я? Нет, я не жалела ни о чем, тихонько сидела, прижавшись к любимому человеку и наслаждалась игрой артистов. Но надо было спешить в Одессу, так как уже заканчивались рождественские каникулы в университете и Борису Петровичу нужно было приступить к занятиям со студентами.
Так как обычный пассажирский поезд курсировал между Москвой и Одессой не каждый день, нам пришлось совершить наше свадебное путешествие в рабочем поезде, в котором были лишь вагоны четвертого класса, но который, по-видимому, в честь Максима Горького, гордо назывался «Максимом».
Хотя стоял лишь январь, но погода была очень теплая и, когда мы стали приближаться к югу, местами на полях начали показываться небольшие полыньи, наполненные водой. С нами, вместе со своим дедушкой ехал мальчуган лет шести, который при виде тающего местами снега каждый раз кричал: «прощай ледок на тот годок». По приезде в Одессу мы сразу приехали в клинику, в которой работал Борис и где находилась принадлежавшая ему как ординатору квартира. Она была небольшая, состоящая из двух небольших комнаток и кухни. Находилась она в полуподвальном этаже, с окнами, выходящими в клинический сад. Милые, милые комнатки, сколько счастливых минут, часов и дней провели мы в них!
На другой день, скрепя сердце, запасшись кое-какими скромными подарками, пошли мы к родителям Бориса, жившим напротив клиники. Встретили они нас довольно прохладно, но все-таки лучше, чем мы ожидали. По-видимому, они поняли, что битва уже проиграна и не стоит больше создавать на этой почве дальнейших осложнений.
Быстро пролетела эта первая зима моей замужней жизни. Чтобы несколько поддержать наш скудноватый бюджет, я преподавала гигиену в старшем классе двух одесских гимназий: построив по-новому свой курс, я очень увлеклась работой. Обычно гигиена в восьмом классе женских гимназий преподавалась очень трафаретно. Я же, исходя из того, что мои слушательницы через каких-нибудь несколько месяцев, окончив гимназию, в подавляющем большинстве выйдут замуж и не будут знать, что делать со своими будущими детьми, хотела, радикально преобразав свой курс, хотя бы отчасти подготовить их к своим будущим материнским обязанностям. Поэтому я ходила с ними в дома грудного ребенка, в ясли, в детский сад и там они знакомились с тем, как нужно одевать, кормить и вообще, воспитывать малышей.
Весной нам пришлось расстаться с нашей квартиркой, так как Борис закончил свой трехлетний стаж ординатора. Перед нами вообще остро стал вопрос, что нам обоим дальше делать и на какие средства жить, пока Борис не закончит своих докторантских экзаменов и не уедет в Ленинград писать свою диссертацию. От стариков, как с моей стороны, так и со стороны Бориса, мы не имели никакого права ожидать какой-либо материальной поддержки. К счастью, в это время приехал из Петербурга навестить своих родителей старший брат Бориса, гражданский инженер Владимир Петрович, имевший вместе с одним еще компаньоном строительную контору в Петербурге. Человек он был исключительно отзывчивый и увидав, в какое трудное положение мы попали, он сейчас же помог нам отыскать и скромно меблировать квартиру. Квартирка эта состояла из трех комнат и кухни, причем из числа этих трех комнат только одна была светлой, другие же две выходили в узкий простенок между нашим и соседним домом.
В комнатке, которая предназначалась для нашей спальной стоял какой-то отвратительный запах смеси карболки и еще чего-то. Как оказалось позднее, там жила и умерла от рака какая-то старуха и она оставила после себя этот ужасающий запах, от которого меня начинало мутить, как только я входила в эту комнату.
Возле ворот дома, в котором мы поселились, Борис повесил небольшую табличку с упоминанием часов своего врачебного приема, рассчитывая на пациентов, но эти пациенты упорнейшим образом игнорировали эту табличку и не появлялись.
Но вскоре дела наши несколько поправились, так как я получила место врача в грязелечебнице на Куяльницком лимане. Жить там было негде, а ездить каждый день трамваем было далеко и утомительно. Приходила к нам в это время помогать по хозяйству одна старушка – Марьюшка. У нее было когда-то приобретенное место на кладбище и она всячески уговаривала нас купить на всякий случай у нее это место. Мы, молодожены, по существу только начавшие жить, при каждом подобном предложении Марьюшки начинали хохотать до упадку, а бедная старушка, обидевшись на нас, уходила в кухню. Бедная Марьюшка, она вскоре заболела серьезным обострением уже бывшего у нее давно сердечного заболевания и ей самой пришлось воспользоваться тем местом на кладбище, которое она так усердно нам сватала. Между прочим, она отлично готовила перловый «супчик», как она его называла, с грибами, и мы им объедались.
Чтобы избежать сложного ежедневного путешествия на Куяльницкий лиман, мы наняли там маленькую комнатку, в которой и поселились. Что же представлял из себя в то время Куяльницкий лиман, как курорт? Там была недавно отстроенная и довольно хорошо для того времени оборудованная рапными и грязевыми ваннами грязелечебница, в которую я и была приглашена в качестве хирурга. Терапевтом же в нее был приглашен в одно время со мной один тоже молодой врач Антон Николаевич Великанов. Но, помимо нас, при этой грязелечебнице числился целый ряд профессоров-консультантов по разным специальностям, которые за плату принимали в ней больных, нуждающихся в лиманотерапии. Помимо указанной грязелечебницы на лимане было еще несколько лечебниц, принадлежавших частным врачам, но, как частными лечебницами, так и грязелечебницей могли пользоваться лишь очень состоятельные больные. Что касается стекавшейся на лиман со всех концов России бедноты, то она была совершенно лишена какой бы то ни был медицинской помощи и на свой страх и риск обмазывала себя грязью и купалась в лимане. Мы с Антоном Николаевичем, сравнительно недавно ставшие врачами и не утратившие нашу профессиональную совесть, были крайне возмущены подобным положением малосостоятельных больных и организовали для них ежедневный бесплатный врачебный прием. Но наше предприятие оказалось весьма невыгодным для ряда профессоров-консультантов, пользующих больных при грязелечебнице за плату. Эти люди оказались сильнее нас и в результате ряда грязных интриг с их стороны в городской управе нам с Антоном Николаевичем вскоре пришлось распрощаться с грязелечебницей.
Борис в то время нигде не работал, так как готовился к сдаче докторантских экзаменов, которые были не за горами. В связи с моим вынужденным уходом из грязелечебницы наше материальное положение стало прямо катастрофическим и перед нами снова во всей остроте стали вопросы – как жить и на что жить? К тому же, я ожидала ребенка. Отношения с родными мужа по-прежнему оставались натянутыми и ограничились нашими редкими визитами к ним на дачу.
И вот, после одного их таких визитов мы с Борисом пошли к берегу моря, но вскоре услышали, что кто-то нас догоняет и просит остановиться. Оказывается, нас догонял наш садовник с каким-то незнакомым мужчиной, который искал нас с Борисом, чтобы занять места врачей в одной частной грязелечебнице в Будаках, недалеко от Аккермана. Трудно себе представить, какое огромное душевное облегчение мы испытали, узнав об его предложении.
Тогда в Аккерман ходил совсем ветхий пароходик «Тургенев», на котором мы и поехали. В Аккермане же мы пересели на линейку, запряженную одной лошадью, доставившую нас в Будаки. Ехали мы не вдвоем, а втроем с нашей няней Юлей. Когда мы организовали в грязелечебнице бесплатный прием для больных, ко мне за советом обратилась молодая девушка, украинка, приехавшая из Нежина по поводу туберкулеза коленного сустава, одна из двадцати двух детей нежинского столяра Семена Лабуты.
Она поразила меня своей жизнерадостностью: одна, серьезно больная, без гроша денег в чужом городе, она вся искрилась самым неподдельным весельем. Так как наша Марьюшка была тяжело больна, я пригласила Юлю помогать мне по хозяйству и нашла в ней незаменимого друга и помощницу.
Хозяином будакского курорта в то время был колонист-немец Циман. Жалованья он нас с Борисом никакого не платил, но представил в маленьком домике, расположенном в парке, две небольших комнатки и кухонку и помимо этого право заниматься частной практикой среди больных, приезжающих на курорт. Будаки расположены на берегу большого лимана, отделенного узкой косой от моря. Окончив наш трудовой день, мы ежедневно вечером отправлялись на лодке на берег моря и там купались. Среди рыбаков, которые перевозили нас на лодке, у нас скоро завелось двое друзей, пожилого звали Никифором, молодого Василием. Василий в свое время окончил начальную земскую школу и с тех пор сохранил сильное желание учиться дальше, но эта мечта осталась мечтой, так как в то время бедняку получить не только высшее, но и среднее образование было не под силу.
Возвратившись в Одессу, мы остановились на даче у стариков [Бориса], и так как приближались мои роды, мы стали искать более удобную и более дешевую квартиру, так как мы оба были безработные и не знали, как скоро нам удастся получить какую-нибудь работу, а на небольшую сумму, которую нам удалось скопить в Будаках, рассчитывать надолго было трудно. Подходящую квартиру мы скоро нашли на Нарышкинском спуске, в Доме Семененко. В сентябре у нас родился мальчик, Вовик. Незадолго до его рождения я получила из дому телеграмму, в которой меня извещали о внезапной кончине моей матери. Когда мы везли нашего малыша из родильного дома на новую квартиру, мы ужасно беспокоились, что он задохнется в ватном одеяльце, в которое мы его закутали, несмотря на то, что еще стояла теплая погода. Детской кроватки у нас не было и малыш спал в бельевой корзинке. Почему-то обстоятельства складывались так, что старший наш сынишка спал вскоре своего появления на свет в бельевой корзине, а младший – в корыте для теста.
Юля к нашему большому удовольствию оказалась прекрасной любящей няней, и мы вполне спокойно могли доверить ей ребенка. Это было особенно важно, так как Борис вскоре уехал в дальнее плаванье, поступив врачом на один из пароходов, а я снова стала преподавать гигиену в гимназиях. В это время у нас случилась беда – куда-то пропал наш любимый фоксик-Пик или, как называла его Юля «Пик – лапки опик».
После рождения ребенка мои отношения с родителями Бориса значительно улучшились и моя свекровь каждое воскресенье после обедни в соборе навещала нас и приносила связку горчичных бубликов, которые мы с Юлей очень любили. Чем же вызвано было это улучшение? Прежде всего, конечно, нас связало появление ребенка, которого и мать Бориса и его сестра вскоре очень полюбили. Вторую же причину этого улучшения я уже узнала много лет спустя от сестры Бориса. «Мы убедились в том, что вы деловая» – объяснила она.
В чем же выражалась моя деловитость в то время? Как мне пришлось убедиться вскоре после моего замужества, Борис оказался, при всех его достоинствах, чрезвычайно беспомощным в обычной практической жизни человеком, приходившим в уныние при малейшем встретившимся на его жизненном пути препятствий. И поэтому с первых же дней нашей совместной жизни, мне пришлось взять на себя и затем нести в течение всей дальнейшей жизни различные житейские тяготы. На мне, например, всегда лежала обязанность отыскивать квартиру, доставать уголь, дрова и прочее. Вначале меня это крайне удивляло и даже временами обижало, в особенности если с подобными поручениями обращалась ко мне, а не к своему сыну моя свекровь. Но потом я привыкла к этому и особенно своими многочисленными обязанностями не тяготилась, так как у меня, в противоположность Борису, довольно твердый, решительный характер, так что в течение всей последующей жизни мы удачно дополняли один другого.
При этом Борис был исключительно мягкий человек, с самыми разносторонними интересами. Он интересовался буквально всем – естествознанием, литературой, всеми видами искусства, причем отнюдь не был простым дилетантом во всех указанных областях. За студенческие годы и годы ординатуры он собрал прекрасную библиотеку по различным отраслям знания. Меня всегда поражало и трогало в нем это исключительно тонкое мироощущение.
Месяца через два Борис вернулся из своего путешествия и привез Вовику турецкую феску и безрукавку. Всю зиму ему пришлось усердно готовиться к докторантским экзаменам, а я по-прежнему преподавала гигиену в гимназиях.
Весной наш немец Циман снова пригласил нас обоих в Будаки и снова угощал нас свежим вином, от которого у нас слегка кружилась голова, снова мы катались, уже на этот раз с нашим Вовиком и с Юлей на лодке с нашими друзьями рыбаками.
Осенью Борис, закончив докторантские экзамены, уехал в Петербург писать и защищать докторскую диссертацию. Я же заняла место уехавшего тоже в Петербург товарища моего мужа в больнице Красного креста. Это была прекрасно обставленная во всех отношениях больница. Хирургическим отделением в ней заведовал опытный хирург Николай Иванович Кефер. Интерну полагалась в больнице уютно обставленная квартирка из двух небольших комнат, где мы и поселились с Вовиком и с няней Юлей. В это время наш малыш уже начал понемногу самостоятельно передвигаться по комнате и я сшила ему первые штанишки и курточку.
Борис же снова уехал в плавание, снова на Ближний Восток – чтобы скопить денег для своего путешествия в Петербург. Привез он Вовику двух хамелеонов, из которых один вскоре пропал в больничном саду, а другого позднее мы выпустили на даче.
Наконец, проводили мы Бориса в Петербург, я же осталась работать в больнице. Работы было очень много, хирургическое отделение было большое и кроме меня другого врача-хирурга не было.
Вскоре из Петербурга от Бориса стали приходить какие-то тревожные и вместе с тем растерянные письма. Он писал, что до сих пор никак не может решить вопроса, у кого писать диссертацию и что вообще ему начинает казаться, что он неправильно выбрал свою специальность и что лучше пока не поздно взять другую, например, хирургию. За два года совместной жизни с Борисом я уже успела убедиться в том, что благодаря крайней нерешительности его характера, ему свойственны всякие колебания, не имеющие под собой никакой, заслуживающей внимания почвы. И с другой стороны, я была уверена в том, что более соответствующей всему складу его личности специальности, чем выбранная им психиатрия и невропатология не найти.
В этом я и старалась убедить его в своих письмах. Но время шло, а дело не подвигалось вперед. Тогда я решила прибегнуть к героическому в то время для меня средству – бросить работу и ехать в Петербург. Когда я сообщил об этом намерении родным Бориса, они категорически запротестовали против этого, как они тогда говорили «безумного и нелепого плана». И со своей точки зрения здравомыслящих людей, они может быть и были правы, так как бросить хорошую работу и уехать в Петербург, в то время как Борис еще не был устроен, квартиры у него не было и он жил у своего брата, было не совсем осторожно. Но я лучше, чем они знала их сына, несмотря на то, что жила с ним всего каких-нибудь два года, а они прожили с ним всю жизнь. Из его писем я почувствовала, что он в данный момент, благодаря нерешительности его характера, особенно нуждается в моей дружеской поддержке и решила, как только найду хирурга, который сможет заменить меня в работе, немедленно поехать в Петербург.
Вот мы и в Петербурге. Борис был поражен и чрезвычайно обрадован нашим приездом. Брат его Владимир Петрович и его жена Евдокия Ивановна встретили нас очень приветливо. Борис был удивлен тем, что Вовик уже самостоятельно ходит и начинает болтать обо всем, даже о том, о чем следовало бы промолчать. Так, однажды, когда у наших хозяев собрались гости и на сладкое подали крем, наш малыш во всеуслышание заявил: «Этим кремом мама на ночь мажет себе лицо», чем вызвал дружный хохот всех присутствующих. Действительно, он был прав. Многие женщины тогда, чтобы не слишком загореть, мазали себе на ночь лицо модным в то время кремом «Метаморфоза».
Как только прошли первые дни после встречи, я принялась усердно искать квартиру и скоро нашла ее на пятом этаже на Консисторской улице, возле Александро-Невской лавры. Но вся наша скромная обстановка осталась в Одессе до лучших времен и хранилась в дачном сарае. Лишь значительно позднее она совершила чуть не кругосветное путешествие и морским путем прибыла к нам в Петербург.
А пока что, при помощи жены Владимира Петровича и еще некоторых знакомых в одной из наших комнат, которую мы торжественно называли нашей приемной, появился большой деревянный некрашеный, не то кухонный, не то чертежный стол, за которым мы с Борисом по вечерам работали, две табуретки и два мягких кресла, в другой комнате изящный диванчик, покрытый плющом, небесного цвета, данный нам на время Таней Садовской, а в третьей комнате стояла широкая деревянная кровать. Сынку моему я собственноручно сшила белую шубку и шапочку и он с няней Юлей гулял по Невскому проспекту с подаренной дядей Володей лопаточкой в руке и гордо заявлял: «Я чищу хажу». Таким образом, довольно быстро в основном наша жизнь снова вошла в норму. Борис в значительной степени подбодренный нашим приездом, взял экспериментальную диссертационную тему у Бехтерева и в нашу жизнь вошли два новых существа, именно, две подопытные собаки «Чертик» и «Мохнатка». В углу же на полу стала постепенно нарастать груда бумажных руло из-под кимографа – записей Бориса, которыми вместо кубиков играл Вовик и называл их «лябачьи», что должно было обозначать «собачьи».
Я же в качестве допущенной начала работать в ортопедическом институте, руководимом профессором Вреденом. Улучшилось и наше материальное положение, так как один из самых видных петербургских невропатологов предложил Борису помогать ему по вечерам в его частной практике, а месяца через два Бехтерев представил ему штатное место ассистента в нервной клинике организуемого им в то время Психоневрологического института. Летом же нас обоих пригласили работать, Бориса как невропатолога, меня же как ортопеда в Евпаторию, в одну частную, прекрасно обставленную санаторию. Закончив нашу повседневную работу в санатории, мы в послеобеденное время наслаждались чудесным морским пляжем, купались, качались на лодке, любуясь разноцветными медузами, в изобилии встречающимися у берегов Евпатории. Но в это лето не обошлось без тревоги. Гуляя в садике возле театра, наш Вовик съел зеленую ягоду крыжовника и погиб бы от дизентерии, если бы в это время случайно не оказалось в Евпатории двух киевских специалистов по детским болезням.
Работая в прекрасном ортопедическом зале санатории, мне неоднократно приходилось встречаться с больными, страдающими неподвижностью суставов после различных перенесенных ими инфекционных заболеваний. Так мне привели родители двух девочек. Из которых одна страдала неподвижностью бедренного, а другая – коленного сустава. Вопреки существовавшему в то время среди ортопедов мнению, что в таких случаях не следует активно вмешиваться, чтобы не вызвать обострения бывшей инфекции, я начала осторожно раскачивать у обеих девочек их тугоподвижные суставы и таким образом добилась у них блестящих результатов. Но так как в Евпатории лечение девочек еще не было совсем закончено, родители осенью привезли их ко мне в Петербург. Я продемонстрировала полученные мною результаты в Ортопедическом институте перед профессором Верденом и старшим ассистентом д-ром Дуранте и они вполне одобрили мое активное поведение в отношении показанных им больных.
Однако, несмотря на эти мои несомненные успехи в лечении тугоподвижности суставов, имеющие принципиальное значение в деле лечения подобных случаев, у меня на душе было неспокойно. Я все больше и больше начинала тяготиться избранной мною хирургической специальности. Это объяснялось моим до болезненности обостренным чувством ответственности за каждого хирургического больного, находящегося под моим наблюдением. Это чувство буквально не давало мне спокойно работать и вообще жить.
И чем дольше я работала в области хирургии, это беспокоящее меня чувство глубочайшей тревоги за каждого больного вместо того, чтобы ослабевать, наоборот, все больше нарастало. В поисках какого-нибудь выхода из создавшегося таким образом положения, я решила перейти в более консервативную область, чем хирургия – в ортопедию. Поэтому я начала работать в Ортопедическом институте. В то же время я помогала по вечерам моему мужу в физиологической лаборатории военно-медицинской академии проводить опыты над Чертиком и Мохнаткой. Это был период большого творческого подъема в области физиологии нервной системы. Как раз в это время выступил Иван Петрович Павлов со своим учением об условных рефлексах и почти одновременно с ним Владимир Михайлович Бехтерев со своей объективной психологией. В продолжении всех этих лет Владимир Михайлович Бехтерев продолжал строительство Психоневрологического института и предложил Борису организовать в этом институте рефлексологическую лабораторию. В виду того, что с одной стороны, Борис был очень занят, и во-вторых потому, что он всегда был крайне беспомощен в чисто практических вопросах, таких, как, например, покупка мебели, аппаратуры и прочего, [чего] при организации лаборатории было очень много, я взялась помочь ему и при организации этой лаборатории. Я тогда шутила над собой, что прихожу Борису во всем на помощь, как рыжий в цирке.
Когда лаборатория была окончательно оборудована, в виду крайней перегруженности Бориса, Бехтерев, видя, с каким энтузиазмом помогала я в организации этой лаборатории, предложил мне место заведующей этой лабораторией и его ассистента при кафедре рефлексологии в Психоневрологическом институте. В это время никакой штатной работы по ортопедии у меня не было, ортопедией я особенно не интересовалась, а гениальное учение Павлова об условных рефлексах меня наоборот, сильно увлекало. Помимо этого мне, естественно, очень хотелось работать в одной области и с моим мужем. В результате всего этого я положительным образом ответила на его предложение. Вообще меня и раньше всегда привлекала психиатрия и я, как сказано было выше, будучи в Париже, работала в качестве допущенного врача в убежище святой Анны для психических больных под руководством профессора Маньяна. Поэтому моя измена хирургии и ортопедии, а также бегство в рефлексологию прошли как-то безболезненно.
Помимо этого, думая не раз о том, оставаться мне хирургом или нет, я начала все больше и больше осознавать, что меня в области хирургии по существу больше, чем сама хирургия, привлекала импозантная во всех отношениях личность моего учителя Ру, перед которым я буквально преклонялась. Я не упомянула о том, что в тот год, когда я держала государственные экзамены в Одессе, он прислал мне очень теплое рекомендательное письмо к заведовавшему в то время в Новороссийском университете кафедрой хирургии известному хирургу Сапешко, у которого я и проработала несколько месяцев в качестве допущенного врача до моего поступления в больницу красного креста.
Несколько же позднее, в первый год пребывания моего с Борисом в Петербурге, я написала Ру письмо, в котором жаловалась на то, что я часто тоскую о Швейцарии и особенно о его клинике и его руководстве. Тогда он предложил мне место врача в его частной клинике, а ткже писал о том, что ему было бы очень желательно, чтобы я, помимо этого, помогла ему в теоретической разработке под его руководством его материалов, так как будучи чрезвычайно занят чисто практической клинической работой, он не мог достаточно времени посвящать научно-исследовательской работе. Конечно, эта перспектива меня привлекала, но мне не удалось склонить к поездке моего мужа, так как ему она мало улыбалась во всех отношениях. Таким образом, мотивировав свой отказ болезнью отца, мне пришлось отказаться от в высшей степени заманчивого во всех отношениях предложения моего дорогого учителя. Его место в моей дальнейшей жизни до известной степени заменил Владимир Михайлович Бехтерев, также ученый с мировым именем, как и Ру, и помимо этого исключительный организатор.
Психоневрологический институт, созданный Бехтеревым, был весьма своеобразным высшим учебным заведением, куда со всех концов России тогда начала стекаться молодежь, бескорыстно интересующаяся изучением высшей нервной деятельности как человека, так и животных. Благодаря выходящей из ряда вон кипучей энергии Владимира Михайловича, на пустыре в районе одного из районов Петербурга, именно на Шлиссельбургском тракте, как бы по мановению волшебного жезла стали очень быстро вслед один за другим возникать различные институты, имеющие перед собой своеобразные исследовательские цели, как, например, Противоалкогольный институт, Институт хирургии мозга и другие.
И помимо этой проводимой им в крупном масштабе организационной работы, Владимир Михайлович заведовал кафедрой психиатрии в Военно-медицинской академии, кафедрой рефлексологии в Психоневрологическом институте, писал много научных работ, раздавал темы для диссертаций многочисленные, приезжавшим к нему со всех концов России врачам, руководил этими диссертациями и вел прием больных, также приезжавших к нему изо всех уголков нашего отечества. И закончив эту ежедневную, колоссальную по своей трудоемкости работу в час или два ночи, он вызывал к себе кого-нибудь из своих сотрудников, чтобы побеседовать с ним по какому-нибудь интересовавшему его научному или организационному вопросу.
Возвращаясь вечером после работы из Психоневрологического института к себе домой на Крестовский остров, он часто по пути завозил меня домой на своей машине. И однажды, когда я стала упрекать его в том, что он совсем не заботится о своем здоровье, он мне ответил: «Что же поделать, приходится так много работать потому, что пока у нас в России мало людей, умеющих по-настоящему работать».
Наступил 1914 год, началась война. Жизнь в Петербурге с каждым днем становилась труднее и дороже. Продукты быстро исчезали, а у нас было двое малышей, а третий ожидался. Поэтому мне, как и Борису, пришлось искать работы по совместительствам. В то время найти работу вообще было нетрудно, так как многие врачи были призваны на фронт, благодаря чему оставались вакантны места. Что касается Бориса, то он был освобожден от призыва, так как в юношеском возрасте у него был тяжелый туберкулезный процесс в обоих легких, оставивший после себя значительные следы.
В качестве работы по совместительству, мы решили остановиться на заведывании отделением в Ново-знаменской психиатрической больнице, где оказались в то время вакантные места. Это была во всех отношениях прекрасная больница и о работе в ней я до сих пор вспоминаю с большим удовольствием, несмотря на то, что работа в ней была сопряжена с рядом трудностей.
Для того, чтобы попасть в нее, приходилось проделывать ежедневно довольно сложный путь. Прежде всего, надо было попасть в переполненный до отказа трамвай и на нем доехать до Балтийского вокзала, оттуда на поезде проехать семнадцать верст до станции Лигово, где нас ожидала линейка, так как от станции надо было проехать еще пять верст до больницы. И такой же сложный путь обратно. Но молодость не знает трудностей и мы не чувствовали усталости, несмотря на то, что, возвратившись домой, после кратковременного отдыха, нам приходилось ежедневно ехать на Шлиссельбургский тракт, чтобы попасть на нашу основную работу в Психоневрологический институт.
Новознаменская больница занимала большую территорию, на которой был разбросан ряд двухэтажных павильонов. Территория эта была настолько велика, что дежурному врачу подавали для обхода двуколку, на которой он объезжал павильоны. Красивые озера, окружавший больницу лес, все это придавало Новознаменской больнице живописный вид. В то время директором в ней был высококвалифицированный психиатр Н. Н. Реформатский, но он в то время, когда мы там работали, отсутствовал в связи с назначением его на какую-то руководящую работу по организации психиатрической помощи на фронте. Нам же приходилось иметь дело с замещающим его главным врачом Николаем Алексеевичем Сокальским, страстно любящим свою специальность и прекрасно относящимся к нам, молодым врачам. Своим любовным отношением к психиатрии он невольно заражал нас всех.
…Война продолжалась и одной из ее бесчисленных жертв стал мой брат Нитя. Он участвовал в войне в составе Ахтырского гусарского полка и когда этот полк временно отошел в тыл, он, не желая оставлять передовых позиций, перешел в так называемую «дикую» дивизию и, участвуя вместе с ней в боях погиб, будучи тяжело ранен в живот и в голову, как писали его товарищи, последним австрийским снарядом, накануне самого перемирия.
Из станиславского госпитала, где он скончался, его невеста привезла его труп в Ковров, где мы его похоронили рядом с мамой и с его старшим братом. На похоронах присутствовал специально приехавший для этого из Москвы, где он тогда работал в качестве редактора одной из газет, Петр Валентинович. Встретил он меня очень сердечно, подробно расспрашивал меня о моей жизни, о моем муже, о детях.
Незадолго перед этим, еще будучи во Владимире, он женился. Однажды, моя младшая сестра Соня зашла к нему по какому-то делу и увидела на стене перед его письменным столом мой большой портрет. Несколько удивленная этим, она шутя его спросила: «А ваша жена не возражает против этого?» Тогда он улыбнулся и сказал: «Она ведь понимает, что первая любовь никогда не ржавеет». После встречи с Петром Валентиновичем на похоронах Нити, мы с ним больше некогда не встречались и потом, значительно позже я узнала, что в последние годы своей жизни он жил и работал в Иваново-Вознесенске Владимирской губернии и там умер от воспаления легких. Для меня было большим облегчением узнать, что он женился, удачно, и жена его оказалась хорошей, доброй женщиной и заботилась о нем.
Война подходила к концу. В это время Борис был назначен старшим врачом другой психиатрической больницы – больницы «Всех скорбящих». Так как там оказалось вакантное место я, предпочитая работать вместе с мужем, заняла это место. Жили мы при больнице в бывшем Потемкинском дворце. Находилась эта больница на том же Петергофском шоссе, как и Новознаменская, но несколько ближе к городу. Однажды я возвращалась с последним поездом из Петербурга. Вдруг в вагоне распространился слух, что убит Распутин кем-то из членов царской фамилии и что труп его брошен в пруд. Все присутствовавшие при этом, особенно военные, открыто выражали свою радость по поводу этого события.
В больнице «Всех скорбящих» был большой штат служащих и рабочих. У многих из них были дети и я в свободное от работы время занялась организацией для этих детей при больнице детского сада и школы. Помимо этого я принимала участие в имевшемся в то время в Петрограде обществе содействия дошкольному воспитанию.
Однажды, когда было объявлено, что в министерстве социального обеспечения, которым во время временного правительства руководила графиня Панина, состоится заседание, посвященное целому ряду вопросов, посвященных воспитанию детей, я была командирована больницей на это заседание. Заседание это затянулось до полуночи и я очень беспокоилась, что не попаду на последний поезд, идущий от Балтийского вокзала по направлению к… Когда я вышла, наконец, из министерства, я обратила внимание на то, что издали время от времени доносятся звуки пулеметов. Не понимая, в чем дело, я пошла дальше по направлению к вокзалу, надеясь найти по пути извозчика, который мог бы довести меня до вокзала. Наконец, на улице показался извозчик, но он категорически отказался везти меня, говоря, что только что на его глазах был убит извозчик, который вез пассажира. Только тогда я поняла всю безысходность своего положения. До отхода последнего поезда были считанные минуты, до вокзала было далеко, а стрельба на улицах усиливалась и редким прохожим приходилось время от времени ложиться на мостовую, чтобы не попасть под обстрел пулемета. К тому же, в руках у меня был большой бумажный пакет с творогом, причем бумага, в которую он был завернут, отсырела. Наконец, еле живая от усталости и волнения я добралась до Балтийского вокзала за две, за три минуты до отхода последнего поезда. В вагоне пассажиры говорили о том, что в городе началось восстание рабочих против временного правительства, чем и объяснялась пулеметная стрельба на улицах. Добралась домой я часа в два ночи, а часов в шесть утра мы с мужем проснулись от звона разбиваемых стекол. Быстро подбежав к окну, мы увидели необычную картину: группа рабочих больницы везла на тачке полураздетого швейцара Семена. В тот же самый момент раздался громкий стук в нашу наружную дверь. Это прибежала перепуганная сиделка и сообщила нам, что рабочие захватили директора больницы, когда он садился в трамвай, уходящий в город, и ведут его топить в соседний пруд. Мы с Борисом быстро оделись, поцеловали детей, поручив их новой няне Кате сменившей вышедшую замуж няню Юлю, и отправились к парадному входу больницы, чтобы более подробно узнать, в чем дело.
Все, что нам сообщила сиделка о попытке задержать главного врача больницы рабочими было правдой. Однако эта попытка оказалась неудачной, потому что на помощь врачу выбежали сиделки и, отбив его от рабочих, затащили в здание больницы, где спрятали в одном из отделений. Но перед парадной дверью больницы продолжала стоять толпа возбужденных рабочих, которых необходимо было так или иначе успокоить. Выйдя к этой толпе, мы постарались с Борисом убедить рабочих разойтись и пойти с нами в помещение клуба, чтобы там спокойно решить вопрос, как дальше действовать по отношению к главному врачу. Я не помню теперь, какая именно была выработана резолюция, но вместе с делегацией рабочих Борис на другой день пошел в комиссариат социального обеспечения говорить по поводу этой выработанной накануне резолюции.
Что касается главного врача, то на другой день рано утром после имевших место событий он на одном из паровозов, проходивших мимо больницы, выехал из ее пределов.
В первое время после октябрьской революции нам работать в больнице было трудно во многих отношениях. Базары были упразднены, продуктов в городе было очень мало и выбор их весьма ограничен: сухая вобла, яблоки и изредка конина. Нам иногда удавалось в небольшом количестве раздобыть картофель у крестьян окружающих деревень.
С освещением больницы было, насколько я помню, не совсем благополучно и во время ночных дежурств было жутковато проходить по темным подвалам из одного отделения в другое, тем более, что в этих подвалах завелось очень много больших крыс, которые шарахались в стороны при приближении к ним человека.
Неважно было и в отношении дисциплины. Как уже было сказано выше, мы с Борисом были совсем новыми людьми в больнице, поэтому никаких неприязненных взаимоотношений между нами и кем-нибудь из персонала не могло быть. Но все же мне вспоминается один неприятный момент, свидетельствующий о некотором ослаблении дисциплины среди служащих больницы. Я работала тогда в так называемом наблюдательном отделении, куда на предварительное испытание поступали все новые больные. Среди них находился депутат государственной думы коммунист Шагов, заболевший в результате сильного переутомления психическим заболеванием в очень острой форме. Находясь в бредовом состоянии, он меня почему-то принял за императрицу Александру Федоровну, которую он остро ненавидел.
В этом отделении в противоположность всем другим отделениям в больнице были лишь одни двери, соединявшие это отделение с внешним миром. Кабинет врача находился как раз напротив этих дверей, отделенный от них узеньким проходом. И вот однажды Шагов сел возле этих дверей, вооружился двумя тяжелыми дубовыми стульями и не давал мне возможности пройти во врачебный кабинет, размахивая над моей головой этими стульями. С большим трудом мне удалось проскользнуть мимо него в кабинет, откуда я вызвала по телефону старшего надзирателя, который пришел с матрасом и с двумя служителями и только таким образом, отведя больного от двери, дал мне возможность уйти из отделения. А между тем, в то же самое время двое дежурных служителей стояли неподвижно у окна отделения, спокойно наблюдая за происходящими не сочли необходимым прийти мне на помощь.
Несмотря на эти мелкие жизненные затруднения, все это время настроение у нас с Борисом было приподнято, так как, хотя мы с ним и не принимали уже активного участия в революционном движении, но прекрасно понимали всю важность быстро развивающихся на наших глазах событий и с напряженным вниманием следили за ними.
Что касается февральской революции, то в это время я была тяжело больна после родов и почти не выходила из-за высокой температуры и сильных головных болей из какого-то сумрачного состояния. Благодаря этому я как-то тупо реагировала на все происходящее вокруг.
Сестра Бориса тяжело заболела Базедовой болезнью и умоляла нас приехать в Одессу, так как, потеряв мать, она чувствовала себя очень одиноко. С продовольствием в Ленинграде было по-прежнему очень плохо и каждое утро передо мной возникал один и тот же вопрос, чем кормить нашу детвору. Работать было тоже очень трудно, совмещая работу в больнице и в Психоневрологическом институте, которые находились на расстоянии многих километров один от другого. Так как часто бывали перерывы в трамвайном транспорте, эти километры приходилось преодолевать пешком напрямик по покрытым снегом полю. А когда врачи констатировали, что у Бориса под влиянием переутомления и недоедания начинается туберкулезный процесс, мы наконец решили покинуть Ленинград, который за восемь лет пребывания в нем горячо полюбили. Но у меня же во Владимире оставался и жил со своей сестрой мой отец. Там же жила и моя младшая сестра со своими двумя детьми, покинутая своим [никудышным мужем]. Взять его с собой было рискованно, так как мы не знали, как встретит нас Одесса, да помимо этого обстоятельства складывались так, что мы не могли ожидать его приезда в Ленинград, так как через два дня отходил последний санитарный поезд в Киев.
Когда мы выехали из Ленинграда уже была половина ноября. Ехали мы в теплушке, посредине которой стояла маленькая печурка. На остановках пассажиры, в том числе наша няня Катя, собирали кое-какой хворост, чтобы можно было затопить ее и не дать всем нам замерзнуть. На станции «Дно» мы впервые в железнодорожном буфете обнаружили коржики из пшеничной муки, которыми угостили нашу детвору. На станции «Орша» нам пришлось пересесть в немецкий санитарный поезд, чтобы попасть дальше на юг. Это было как раз время Брестского договора. Всю ночь нам пришлось с детьми провести в какой-то маленькой избушке посреди леса, в котором были расположены отходившие от границы немецкие войска. Ровно в четыре часа ночи, как было обещано, открылось в соседней железнодорожной будке окошечко и мы получили пропуск на посадку в санитарный поезд. Дальше Жлобина этот поезд не шел и мы пересели там на маленький пассажирский пароходик, направлявшийся в Киев. В Жлобине, по дороге к пристани нам встретилась не то булочная, не то кондитерская, в которой мы купили несколько пирожным, чем привели в полный восторг наших малышей, да и сами мы поели их не без удовольствия. Ехать на пароходе после душной теплушки было очень приятно. Дети, почти не отрываясь, смотрели в окно и расспрашивали, особенно Вова, Бориса обо всем, встречавшимся по пути. Кормили нас на пароходе превосходно, до сих пор я вспоминаю с удовольствием жирные мясные бифштексы, которые нам подавали к столу. Помимо этого пароход часто останавливался на различных пристанях, куда крестьянки приносили самую разнообразную снедь.
В Киеве нам пришлось целую утомительную ночь провести с детьми на вокзале, уложив их кое-как на полу, набитом спящими пассажирами. Нам же с Борисом не спалось и мы провели все время до рассвета, сидя на полу возле детей и нашего багажа. Я помню, как один пожилой немецкий полковник, с трудом пробиравшийся между спящими пассажирами, посмотрев на нашу маленькую Таню, разрумянившуюся во сне, вздохнув, сказал: «Бедное дитя», может быть, вспомнив своих детей, к которым он теперь мог наконец возвратиться..
Из Киева в Одессу нам пришлось ехать поездом, в переполненном до полного отказа вагоне, погружавшемся в беспросветную тьму при наступлении ночи. Изнемогали наши бедные дети, изнемогали и мы. Наша новая няня Катя, деревенская женщина, очень быстро привязалась ко всей нашей семье, особенно к детям. В противоположность жизнерадостной Юле, она обладала более мрачным характером и с большим трудом [cходилась с людьми]. И вот, когда мы уже подъезжали к Одессе, она из-за очереди в уборную поссорилась с какой-то другой женщиной, ехавшей со своим мужем, и ударила ее кулаком в лицо. Оскорбленный муж вступился за свою громко вопившую, не известно от чего, от боли или от обиды, жену и нам с Борисом с очень большим трудом удалось ликвидировать этот весьма неприятный инцидент.
Но вот мы, наконец, в Одессе, все пятеро в небольшой полутемной комнатке в квартире сестры Бориса, встретившей нас очень радушно. Прежде всего, нам пришлось заняться спешной ликвидацией последствий нашего путешествия – освободить себя и детишек от бесконечного количества насевших на нас в пути как платяных, там и головных паразитов. Когда с этим было покончено, мы вместе с детворой вышли на улицу и, прежде всего, пошли на одесский базар, поразивший нас своим изобилием и красочностью благодаря массе самых красочных фруктов и овощей.
Оставаться долго у сестры Бориса мы не могли из-за тесноты и мне вскоре удалось снять две довольно больших комнаты у одной старушки, в противоположном конце города, за вокзалом в Вознесенском переулке. Но еще находясь на прежней квартиры, мы пережили приход в Одессу Петлюры и связанные с этим приходом уличные бои.
Как только мы переехали на новую квартиру, перед нами снова встал вопрос, как дальше жить и на какие средства жить? Из полученных нами денег из Ленинграда оставались гроши, новых денег взять было не откуда, а продавать тоже было нечего, так как большинство наших вещей мы вынуждены были наряду с обстановкой оставить у наших товарищей по работе, так как в санитарный поезд брать много вещей с собой не разрешалось. Но такие затруднительные обстоятельства встречались в нашей совместной жизни с Борисом не впервые и мы не особенно унывали. А пока что Борис, умевший хорошо рисовать, начал выпиливать из фанеры и разрисовывать детские игрушки, а я пыталась продавать их на базаре. Но торговля эта шла так плохо, что вскоре пришлось ее ликвидировать. Тогда я начала вместе с женой одного приятеля Бориса торговать пирожками с мясом, которые та приготовляла, но и эта попытка оказалась немногим лучше предыдущей, так как продающих оказалось гораздо больше покупающих. Наконец, однажды ночью мне пришла в голову одна удачная мысль. Дело в том, что в Ленинграде я работала в качестве врача-консультанта в учреждении для умственно-отсталых детей. В Одессе в таком учреждении была большая нужда. Но дело осложнялось тем, что прежде чем приняться за такое сложное дело, как организация подобного учреждения, мне предстояло произвести на свет четвертого ребенка. К сожалению, и это дело оказалось довольно сложным. Мой муж, ушедший в центр города в поисках акушерки, долго не мог вернуться обратно благодаря ожесточенному бою между красными и белыми частями на Привокзальной площади, отделявшей нас от центра города. Но уличный бой, к счастью, вскоре прекратился, Красная армия одержала верх над белогвардейцами и в городе на короткое время установилось спокойствие.
Как только я поправилась, я сейчас же принялась за приведение в жизнь задуманного мною плана. Это было весной 1919 года. Получив от отдела народного образования разрешение и небольшую сумму денег, я с увлечением приступила к организации колонии «Жизнь» на сто детей психоневротиков и умственно отсталых. Мы в это время жили на даче. Там же и на двух соседних пустующих дачах я решила разместить колонию. Дело это в организационном отношении оказалось трудным, так как не хватало необходимого инвентаря. Поэтому в поисках его мне приходилось проводить целые дни, а мой бедный малыш оставался целиком на руках няни. Спал он в корыте для теста и кормила я его не совсем аккуратно, будучи занята по горло хлопотами по устройству колонии. Наконец, весь необходимый инвентарь был найден и свезен на дачи. Появились воспитательницы и заведующая хозяйством. Вскоре нахлынули дети и началась работа очень интересная, но и трудная благодаря крайнему разнообразию возрастного состава детей и их психического состояния. Так прошло все лето 1919 года. Уже наступила осень и приближались холода. Помещения, в которых была размещена колония, были летнего, дачного типа. Приходилось позаботиться о более теплом помещении. Но неожиданно наступившие события нарушили все наши планы. В городе снова появились белые военные части, снова начались уличные бои, во время которых доставка продуктов для детей была сопряжена с риском для жизни всего нашего хозяйственного персонала. Несмотря на это, они самоотверженно продолжали выполнять свои обязанности.
Временно советские войска должны были отступить. Как положение колонии, так и мое лично оказалось катастрофическим, так как на моих руках оказалось сто больных детей и ни гроша денег в кассе, снова пришлось спешно искать какого-нибудь выхода из создавшегося положения. В конце концов, было решено вернуть домой всех детей, имеющих родителей, и оставить в колонии лишь сирот и глубоко отсталых. Но все же и после это у нас оставалось не меньше шестидесяти детей. Куда их деть? На какие средства их содержать?
В отношении помещения нам навстречу пошла известная одесская благотворительница Брандт, предоставив на отдельный домик на территории Михайлово-Семеновского детского приюта, который она субсидировала. Второй вопрос относительно средств разрешился тоже до известной степени благополучно. Дело в том, что кроме того небольшого дачного участка, который принадлежал моему мужу, рядом находился так называемый «общий» небольшой участок дачи, принадлежавший наряду с Борисом его сестре и брату. Этот участок они решили как раз в этот момент продать и на долю моего мужа пришло двадцать пять тысяч «колокольчиками». И эти «колокольчики» дали мне возможность продержать колонию до тех пор, пока я не получила денег от городской думы. И к чести одного из членов городской думы, заведовавшего тогда отделом социального обеспечения, я должна сказать, что представив соответствующие счета, истраченные мною на колонию собственные деньги я через некоторое время получила обратно.
К этому времени относится один инцидент, который нельзя замолчать, так как он оказал некоторое влияние на ход последующих событий в моей жизни. Отправив колонию в Михайлово-Семеновский приют, мы оставались еще некоторое время на даче. И вот как раз в тот момент, когда только что отзвучали уличные бои и в городе воцарились белые, поздно вечером ко мне на дачу пришел один молодой человек с запиской от Александры Владимировны Геккер.
Александра Владимировна, вдова народовольца Геккера, за которого она вышла замуж, когда он уже был совершенно беспомощным инвалидом, не владевшим ни руками, ни ногами. Будучи сослан куда-то на Дальний север, он, желая избегнуть телесного наказания, выстрелил в себя – пуля попала в спинной мозг, в результате чего он стал глубоким инвалидом.
Александра Владимировна Геккер в своей записке, присланной с молодым человеком, мне писала, что податель этой записки – брат видного харьковского коммуниста Адова и что она просит меня спрятать его от белых, пока ему не удастся скрыться из Одессы. Так как на даче я его оставить не могла в виду того, что у нас был отвратительный дворник, я послала его в качестве практиканта в колонию в Михайлово-Семеновский приют с тем, чтобы ему там представили помещение для ночлега. Его же я умоляла, чтобы он не выходил никуда, пока ему не будет представлена возможность покинуть город. Все было спокойно в течение двух-трех недель его пребывания в колонии, но он однажды ушел и пошел навестить свою тетку, где его сразу же арестовали, но через некоторое время выпустили.
В первые дни после прихода в Одессу белых на пути моем с дачи в колонию я каждый день встречала валявшиеся на земле трупы жертв белого террора.
Но вскоре в Одессе, на этот раз уже стойко, утвердилась советская власть и я перевела колонию из тесного помещения в новое прекрасное, состоявшее из трех корпусов помещение и снова расширила состав детей до ста человек, соответствующим образом увеличив и число педагогов. Я с семьей тоже поселилась при колонии, заняв там две небольших комнатки. В одной из них жили дети с няней, а в другой спали мы с Борисом.
Работой в колонии я увлекалась. В октябрьские дня мы устроили детский праздник и поставили инсценировку сказки Пушкина «О царе Салтане», в которой участвовали наши воспитанники. Детвора осталась в восторге от праздника и от полученных гостинцев. Дети мои, присутствовавшие на празднике, также остались очень довольны. Но не все то, что хорошо начинается, хорошо оканчивается. В это время к нам в колонию поступила совсем беспомощная девочка, полная идиотка, дочь одного педагога. На другой или третий день после своего поступления она заболела очень тяжелой формой дифтерита. Больную мы немедленно отправили в детскую инфекционную больницу, произведя после нее тщательную дезинфекцию в колонии. После этого никаких других заболеваний дифтеритом у нас не было, а девочка в больнице умерла. И вот, кажется, через неделю после этого, к нам пришла комиссия из Чека под председательством чекиста Домбровского и произвела самую детальную ревизию дел колонии. Так как весь наш персонал, как педагогический, так и хозяйственный, был горячо предан общему делу, никаких упущений в работе комиссия найти не могла и мы трое – я, главный врач и заведующая хозяйством, были обвинены в контр-революции, так как мы осмелились поставить во время детского праздника сказку Пушкина о «царе» Салтане. Посадили нас в Чека и там мы пробыли около двух месяцев. Пробыли бы и дольше и неизвестно вообще чем бы кончилось это дело, если бы мой муж не догадался пойти к Александре Владимировне Геккель, а она не пошла бы к Кельмансону, заведовавшему в то время Чека и не рассказала ему о том, как я скрывала Адова. На второй день после этого разговора нас выпустили из Чека без всякого суда и следствия.
Оставаться дальше в колонии «Жизнь» мне уже не хотелось. Я была сильно обижена на Наробраз, который прекрасно знал меня как активного и в достаточной степени преданного делу работника, с одной стороны, и всю нелепость обвинения, с другой стороны, и вместе с тем и пальцем не пошевелил, чтобы содействовать нашему освобождению. Еще некоторое время после того мы продолжали жить в двух комнатках колонии, но вскоре получили хорошую квартиру в самом центре города, переданную нам уехавшими из Одессы знакомыми. Но с питанием дело обстояло исключительно плохо. На улицах местами стали встречаться свалившиеся от недоедания люди.
Наступила глубокая осень, ветреная, холодная. Топлива тоже не было. Хотя Борис уже работал в качестве доцента Университета, его в то время скромной зарплаты на нашу семью не хватало. Мне же знакомый врач предложил место врача во вновь организуемой детской санатории в Подольской области. Предложение было очень соблазнительное, так как эта область была плодородной и туда стекались в то время мешочники из других недородных местностей. Но как уехать и оставить в голодной Одессе такого непрактичного в житейском отношении, как Борис? Но раздумывать долго было некогда, так как погода быстро портилась, а с питанием с каждым днем становилось хуже. Наконец, назначен был день выезда. Решено было на семейном совете, что в Одессе остаются Борис с Вовой, которому надо было продолжать учебу в школе, а остальные – я, Катя и трое малышей едем в Антополь. Вместе с нами отправлялся и недавно подобранный нами с улицы славный песик Тузик, очень быстро привязавшийся к нам.
Печально было наше прощанье: уж очень тревожное время переживала наша страна. Еще не закончилась интервенция, свирепствовал голод, сыпной и брюшной тиф. Ехали мы в санитарном вагоне относительно хорошо, но на станции Перекрестово няня, не предупредив меня, вывела без поводка Тузика и он остался на этой станции. Я всегда очень любила животных и для меня потеря Тузика была большим горем. Бедное маленькое существо, очень возможно, что он где-нибудь под забором погиб от голода. На рассвете мы приехали в Вапнярку. Там нам пришлось довольно долго ждать, прежде чем удалось доставиться на машине в Антополь, отстоявший от Вапнярки на расстоянии семи километров.
Детская санатория, в которую я была приглашена врачом, находилась в бывшем дворце графов Потоцких, расположенном среди обширного парка. Нам в этом дворце была предоставлена одна комната. Кроме кровати, стола и двух стульев в этой комнате существовало еще одно порванное мягкое кресло, ставшее любимым местопребыванием моего младшего сынишки Ади, воображавшего, что он едет на подводе. Подражая антопольским крестьянам, он, сидя на своем кресле, покрикивал: «А-тя, а-тя!»
Мы уже прожили в Антополе больше месяца, а детей в санаторию почему-то не присылали. Зарплату мне платили, но было как-то неудобно получать деньги и ничего не делать. С Одессой не было почти никакой связи, лишь изредка через одного знакомого железнодорожника мы получали письма от мужа. Ни поехать в Одессу, ни приехать оттуда не было никакой возможности, не рискую жизнью, так как повсюду свирепствовал сыпной тиф.
Наконец, прошла еще половина месяца, а детей по-прежнему в санатории не было. Кто знает, может быть и не будет их вовсе? Тогда, потеряв всякое терпенье, я начала искать место участкового врача. Главный врач, узнав, что я хочу оставить санаторию, не давал мне транспортных средств для поездки в Томашполь, где находился Здравотдел. А между тем, когда я собиралась ехать в Антополь, одна моя знакомая дала мне адрес одного бывшего адмирала, жившего на одной из станций, не доезжая Вапнярки, так, на всякий случай. Так как эта станция, Рудница, была ближе Томашполя, я решила поехать туда поездом и разузнать, не нуждаются ли там во враче. Это было за два-три дня до Рождества. Выйдя рано утром, я сравнительно легко одолела семь километров пути до Вапнярки. Подошел поезд, до отказа нагруженный мешочниками. Сравнительно легко мне удалось вскочить на поезд, но как только поезд начал отходить от станции, один из мешочников столкнул меня с площадки и я, запутавшись в большой няниной шали, упала возле самых рельсов, к счастью, случайно не попав под поезд. Что же оставалось делать дальше? Возвращаться, не узнав ничего положительного в Антополь? Для меня этот выход был неприемлем, тем более, что у меня к этому времени в значительной степени испортились отношения с главным врачом, которого я неоднократно упрекала в том, что он недостаточно энергично хлопочем о присылке детей в санаторию.
Поэтому я решила идти до Рудницы пешком вдоль рельсов. Шла, шла, почти никого не встречая на своем пути. Стало темнеть. Вокруг железнодорожного пути с обеих сторон возвышались плотные леса. Совсем вблизи от Рудниц мне встретился один пожилой крестьянин, идущий навстречу мне. «Что вы так поздно идете здесь, да еще одна? Смотрите, везде здесь бродят банды Зеленого». Вскоре возле опушки леса показался огонек: это был костер, который разложили красноармейцы.
Наконец, сильно уставшая я дошла до Рудницы. Вокзал и еще несколько железнодорожных строений были разрушены бомбой. У одной встречной женщины я спросила, где живет адмирал, к которому меня направляла моя одесская знакомая. «Он, ответила она мне, уж несколько дней как без сознания, умирает от сыпного тифа». Я тогда подумала, какой же мне смысл идти к ним? Ему я ничем особенно помочь не смогу, его лечит местный фельдшер, а сразу рисковать заразиться сыпным тифом и оставить детей на произвол судьбы тоже бессмысленно. Тогда я решила найти местный медицинский или, вернее, фельдшерский пункт, заночевать там и утром с первым поездом уехать обратно в Антополь. Но сделать это оказалось довольно затруднительным. В какую хату я ни стучала, чтобы узнать, где находится этот пункт, мне не открывали, боясь нападения бандитов.
Наконец, я нашла фельдшерский пункт. Не открывая дверей, фельдшер спросил меня, кто я и что мне нужно. Я ответила, что я врача, что мне необходимо где-нибудь переночевать. Тогда он мне, по-прежнему не открывая двери ответил, что он, к сожалению, не имеет возможности оказать мне гостеприимства, так как его жена в очень тяжелом состоянии, заболев возвратным тифом. Тогда я попросила его разрешить мне переночевать в своем амбулаторном помещении. На это он согласился и я провела всю ночь, свернувшись калачиком, на единственном металлическом столике, на котором по утрам фельдшер осматривал больных. Амбулатория не отапливалась, было холодно и я была благодарна няне за ее большую шаль, которую она мне одолжила и которая меня не раз выручала впоследствии в тяжелых обстоятельствах.
Домой я вернулась накануне Рождества, к великому восторгу своей детворы, которой обещала в сочельник устроить елку. Уже накануне вечером моя старшая девочка Таня вместе с няней пошли в парк и там срубили для этой цели небольшую елочку. Вышло также очень удачно, что как раз в этот день моему мужу удалось прислать со знакомым железнодорожником сласти и выпиленные и раскрашенные самим мужем игрушки детям. Из письма мужа я узнала, что им живется нелегко. Мой двенадцатилетний сын Вова должен был временно оставить школу, так как ему пришлось взять на свои детские плечи все хозяйство: он убирал помещение, ходил за провизией, вместе с моим мужем топил две печурки, готовил пищу и принимал приходивших на прием к мужу больных. В свободное же время по вечерам он увлекался Жюль Верном. В Одессе голод и сыпной тиф пожинали свою обильную жатву. Тяжело заболел сыпным тифом наш большой друг доктор Филиппов.
После моей первой вылазки в поисках места участкового врача, я вскоре сделала вторичную вылазку в противоположном направлении, в одно богатое село, где, как мне передавали, было свободное место врача. Был сильный мороз. От Антополя до этого села было 40 километров, а я шла пешком. Среди дня начало сильно вьюжить и я сбилась с пути, но к вечеру все же я подошла к самому селу, но войти в него мне не давала свора голодных собак. Наконец, когда их внимание было отвлечено каким-то шумом на улице, мне удалось добежать до первой хаты и постучать в дверь. В этой хате жила польская семья, принявшая меня весьма гостеприимно, тем более, что в этот вечер они праздновали Новый год, по какому случаю накормили меня очень вкусным холодцом и напоили самодельным молодым вином. В этот вечер в селе впервые появился электрический свет и в каждой хате загорелась лампочка Ильича, которую с одинаковым восторгом приветствовали как дети, так и взрослые.
К сожалению, сведения, полученные мною относительно вакантного места врача, оказались запоздавшими, так как врач в село уже был назначен и на другое утро я отправилась тем же самым путем пешеходного хождения обратно домой.
Вскоре после этого мне удалось поехать в Томашполь, уже на лошадях. Там я получила место участкового врача в селе Яланец, куда мы и отправились в один их ближайших дней. Было очень холодно и я боялась простудить детей. Однако в этом отношении все обошлось благополучно, но нас в Яланце ожидали другие неприятные сюрпризы. Врача в Яланце до сих пор не было, а был опытный пожилой фельдшер, который ведал медицинским пунктом. Появление же врача в том селе, где он работал единолично в течение ряда лет, естественно, было для него нежелательно.
Приехали мы в Яланец под вечер и никакой квартиры для врача там не оказалось. Пришлось поселиться в одной старой хате с выбитым окном, которое наша няня Катя заложила соломой. Топить хату было нечем, но один из зажиточных крестьян любезно предложил привести нам немедленно воз дровишек. В этой хате мы прожили около недели, а затем поселились в комнатке возле амбулатории. Зарплаты в то время врачи не получали, а имуществовали исключительно тем, что добровольно приносили им пациенты, вызывавшие врача к себе на дом. Лекарств никаких, кроме противочесоточной мази, в амбулаторной аптечке не было. К счастью, мне удалось получить необходимые мне медикаменты от мужа из Одессы.
Добиваясь места участкового врача, я прекрасно учитывала, что мне придется иметь дело с сыпным тифом и я стремилась к этому, так как считала совершенно ненормальным, что я сижу уже второй месяц без дела в санатории, в то время как страна испытывает острую потребность во врачах для борьбы с этой ужасной эпидемией. И вместе с тем, я в начале своей работы на участке несколько побаивалась своего непосредственного контакта с сыпнотифозными больными, так как, окончив медицинский факультет в Швейцарии, я никогда не видала таких больных и только могла судить о них по учебникам. Поэтому я боялась ошибиться в диагнозе этого неизвестного мне заболевания. Не менее этого я боялась вызовов на осложненные роды, так как в Лозаннском университете не было отдельной акушерской клиники, а существовала объединенная клиника гинекологии и акушерства, в которой предпочтительное внимание уделялось гинекологии.
К сыпному тифу я очень скоро привыкла, что же касается патологических родов, то я продолжала бояться их до самого последнего дня пребывания моего в Подолии. Каждый раз, когда среди ночи раздавался стук в мое окно, я с ужасом думала о том, что меня вызывают на паталогические роды. И к моему великому счастью, за всю мою практику в качестве участкового врача такого случая ни разу не оказалось.
В общем, жилось нам в Яланце неплохо. Вскоре мы переехали в другую, более просторную квартиру. В продуктах мы не нуждались, так как крестьяне как самого Яланца, так и окрестных деревень часто вызывали меня на дом и оплачивали мой труд, кто как мог, смотря по достатку, но непременно натурой, а не деньгами, которые в ту пору не имели никакой цены. И именины и дни рождения нашей детворы мы праздновали в зависимости от этих приношений, лишь очень приблизительно считаясь с истинной датой этих праздников. Работы у меня было более чем достаточно, и мне эта работа была по душе.
Весной мы с няней решили взять и обработать вдвоем порядочный кусок земли, причитавшийся участковому врачу. Получив этот участок, мы каждую свободную минуту посвящали работе над ним. Мы посадили картошку, гречку, просо, подсолнухи и с упоением мечтали о том, как осенью мы повезем плоды своих трудов в голодную Одессу. Но, как говорит старинная русская пословица: «Человек предполагает, а бог располагает». Так и у нас совсем неожиданно на нашем пути возникли трудности, которые легко могли бы помешать осуществиться нашим скромным мечтам.
Эпидемия сыпного тифа к тому времени уже начинала сходить на нет, но еще продолжала гнездиться в двух, трех семьях. И когда это заболевание попадало в какую-нибудь семью, бороться с его дальнейшим распространением в этой хате было почти невозможно благодаря полнейшему игнорированию другими членами семьи заболевшего самых основных гигиенических правил. Врачу, для того чтобы осмотреть заболевшего сыпным тифом, приходилось чаще всего залезть на печь или на полати, где больной лежал в каком-нибудь тряпье или на полушубке, полных насекомыми. Так случилось и со мной, когда я выхаживала последнего больного в одной из крестьянских хат. В результате этого, наступила очередь и мне заразиться сыпным тифом, причем в очень тяжелой форме.
Обстановка для этого была во всех отношениях весьма неподходящая: дома было трое маленьких детей и ни капли провизии. Связь с Одессой была окончательно прервана, так как нашего знакомого железнодорожника перевели на какую-то другую линию. Почта ходила очень неаккуратно, так что мой муж узнал, что я переболела сыпным тифом лишь тогда, когда я уже поправлялась.
Я лежала пластом с очень высокой температурой и чувствовала, что вот-вот я потеряю сознание. Тогда прежде всего я послала в ту семью, где я заразилась сыпным тифом, предварительно выходив пять человек, заболевших тяжелой формой тифа. Они обещали мне дать мешок муки. Это было бы величайшим подспорьем для моей семьи. Но когда няня им сказала, что я тяжело заболела, заразившись от них тифом, они отказались дать муки, сказав, что это не я, а бог помог им выздороветь. Тогда в полубредовом состоянии я написала в Томашполь в здравотдел, что я заболела сыпняком и моя семья сидит без куска хлеба. Оттуда мне прислали муки и врача. Когда приехал врач, я уже почти все время была без сознания, лишь иногда приходя в себя. Меня мучил один и тот же устрашающий бред: мне казалось, что я хожу по каким-то подземельям, наполненным трупами. Мне почему-то страшно хотелось вина и я решила, что здравотдел послал мне с каким-то красноармейцем вина, но тот присвоил его себе.
Бедная няня Катя сбилась с ног, ухаживая за мной и за детьми. К счастью, во время моей болезни одна родственница моего мужа, Антонина Николаевна Миролюбова, навестила нас и увидев, в каком тяжелом положении очутилась наша семья, взяла к себе временно, до моего выздоровления, мою младшую девочку Мусю. Она жила недалеко от Яланца.
Наконец, наступил кризис и я, придя в сознание почувствовала, что умираю. Тогда я послала няню к фельдшеру и он мне ввел камфору. После этого я очень медленно начала поправляться. В это время как-то совершенно случайно мой муж узнал, что я перенесла тиф и немедленно приехал к нам с Вовой. Он пробыл у нас около недели, наладил дело с нашим питанием и снова уехал в Одессу, оставив у нас Вову и перевезя всех нас в соседнее село Стену, где мне здравотдел предложил, учитывая перенесенное мною заболевание, более спокойное место заведующей детской консультацией в Стене. Уезжать вместе с мужем в Одессу и увозить туда детей мне не хотелось, так как там по-прежнему было голодно.
Я прожила не менее восьми лет в Швейцарии, в течение которых много бродила пешком по этой стране, побывала почти во всех ее наиболее живописных местах, но ни один из виденных мною там пейзажей не сохранился так отчетливо в моей памяти, как общий вид Стены. Всем моим детям, особенно Мусе, так понравилась Стена, что они долго мечтали о том, чтобы как-нибудь провести там лето. Действительно, Стена – исключительно красивое село. Посредине его возвышается громадная длинная скала-стена, вокруг которой извивается со всех сторон окружая скалу небольшая речка, по берегам которой ветки различных фруктовых деревьев свешиваются почти до самой воды.
По приезде в Стену мы поселились в небольшой хатке на краю села, возле самой речки. Возле хатки рос ряд фруктовых деревьев и моя детвора всласть наедалась сливами, вишнями, грушками и черешнями. Бедные дети, они росли в самое тяжелое для страны время и им казалось даже странным такое изобилие различных вкусных вещей.
Незаметно подкралась осень и нам с няней и Вовой уже приходилось подумывать о том, что в Яланце на нашем поле нас ждет готовый урожай. От Стены до Яланца, кажется, было семь километров расстояния и мы, оставив дома малышей и поручив их соседке, рано утром почти ежедневно втроем стали уходить в Яланец и там оставались до самого вечера, снимая с поля урожай. Однажды мы переусердствовали, вышли из Яланца очень поздно и в темноте, не заметив спуск, ведущий к Стене, принуждены были заночевать в лесу, оставив наших малышей одних в хате. В другой раз после проливного дождя мы с трудом попали, возвращаясь из Яланца домой, так как небольшой ручеек, через который нам приходилось переходить, вдруг превратился в бурную речку и затопил мостик, перекинутый с одного берега ручейка на другой. Но, в конце-концов, вымокнув по шею в воде, мы преодолели препятствие и в хорошем настроении пришли домой. Дома нас ожидала новость: оказывается, наша семилетняя Таня оказалась героиней дня: ей удалось, переходя через начавший после дождя погружаться в воду мостик спасти, схватив за рубашонку, упавшего в воду и начинавшего уже тонуть соседнего малыша. Уже наступали заморозки, мы уже собрали все просо, всю гречу, свезли на маслобойку наши подсолнухи. Но нас еще задерживала кукуруза. Наконец, покончили мы и с ней и, заняв почти целую половину товарного вагона нашими мешками, отправились в Одессу.
Приехав туда, я приодела в спешном порядке Вову и отправила его с порядочным опозданием в школу, младших же детей устроила в детский сад, так как всегда была убежденной сторонницей общественного воспитания детей дошкольного возраста. Вначале детвора ходила в детский сад неохотно, но вскоре полюбила его.
В Одессу я возвратилась сильно исхудавшая после болезни, подурневшая, с бритой головой, но вскоре начала поправляться, а волосы мои так же быстро начали отрастать и виться, как это часто бывает после тифа. Все говорило о том, что пора уже мне работать. В это время в Одессе была организована опытная педагогическая станция, иначе называвшаяся Кабинетом социальной педагогики. Узнав, что я приехала, заведующий этой станцией пригласил меня в ней работать в качестве научного сотрудника, на что я охотно согласилась, так как работа эта была мне знакома и в достаточной степени живо меня интересовала. Особенно интересовало меня изучение психики не отдельной детской индивидуальности, а жизни целого детского коллектива, вопрос, которым у нас в Советском Союзе еще никто не занимался.